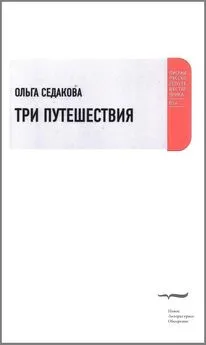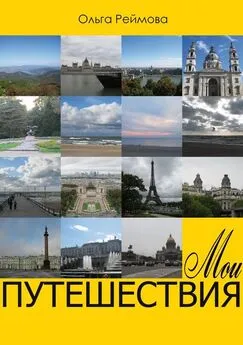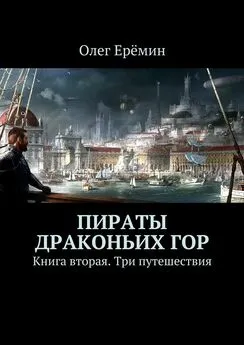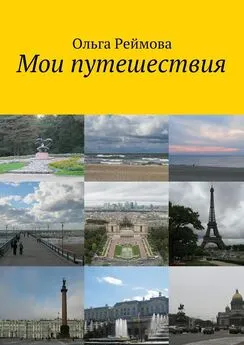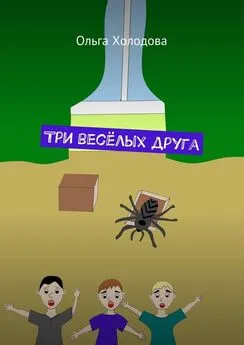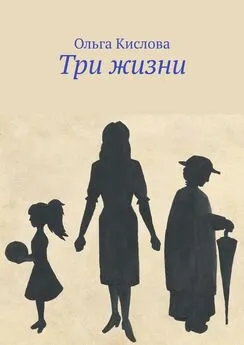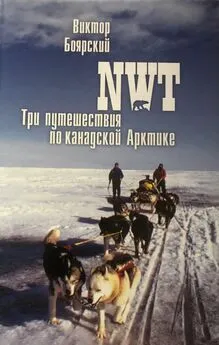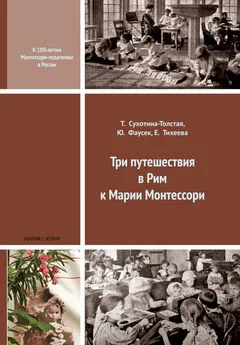Ольга Седакова - Три путешествия
- Название:Три путешествия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0056-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Седакова - Три путешествия краткое содержание
«Путешествие в Брянск», «Путешествие в Тарту» и «Opus incertum» — это путешествия во Время. Покидая Москву, поэт открывает читателю вид на эпоху. Из провинциального Брянска — на время советских 70-х, из уже «не нашего» Тарту — на Россию 90-х, из Сардинии — на время общей политкорректности и нашего от нее убегания. Как быть со злом своего времени, что с ним делать, как быть с собой? Новое место — это точка зрения, необходимая дистанция, чтобы бескомпромиссно взглянуть назад вглубь, на себя. Тонкая прихотливая выделка письма Ольги Седаковой, ее печаль и юмор позволяют приблизить к глазу драгоценные кристаллы опыта одной человеческой души. Ее фразы незаметно, но настойчиво отмежевываются от привычного построения и течения смысла и в своей магической оптике открывают вид на предметы очень новые для мысли и понимания, завораживающе красивые. Но по сути — все три путешествия, выполненные в форме писем другу, это глубокая апология жалости, это просьба о милости к нам всем, с которой много лет назад началось первое и которой недавно закончилось третье из странствий поэта.
Три путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Утром невыспавшийся автор отправился в город, на доклад, посвященный «Поэтике» Аристотеля. Делала этот доклад Нина Брагинская, ближайший друг ОС (переведшая к этому времени «Никомахову этику»), а слушать и обсуждать его собирались лучшие гуманитарии тех лет. Опоздав после бессонной ночи и пытаясь по возможности незаметно просочиться в аудиторию, где доклад уже шел полным ходом, ОС заметила, что со слушателями происходит что-то странное. Просвещенному собранию было явно не до Аристотеля. Все выглядели встревоженными и чего-то ждущими. Переглядывались, обменивались записками. Наконец, сосед шепотом объяснил ОС причину этого странного общего состояния: стало известно, что умер Ю. В. Андропов. Из этого факта легко восстановить дату происходящего: 9 февраля 1984 года — или на день позже: о смерти главы государства объявляли обычно с опозданием.
Смерть правителя в России всегда переживалась как общенародное бедствие и событие апокалипсического масштаба. Так было и в царской России (вспомним похороны царя Алексея Михайловича Тишайшего в 1676 году), и тем более — в советское время (похороны Ленина в 1924 и Сталина в 1953). Смерть Брежнева, над которым все привыкли посмеиваться, вдруг обернулась той же картиной всенародной скорби. Искренней? В стране, где все зависит от одного человека, а законы перехода власти остаются национальной проблемой, смерть главы государства неизбежно становится концом эпохи, своего рода крушением космоса, а будущее представляется неопределенным и пугающим (перемен к лучшему — или даже сохранения status quo — обычно никто не ждет). К этому нужно добавить особое значение темы власти в советской истории (см. об этом «Путешествие в Брянск»). С этим космическим масштабом смерти властелина связаны постоянные отсылки к латинскому Реквиему, тема которого — конец света. Страшный Суд.
Смерть Брежнева открыла эпоху государственных похорон, которая продолжалась вплоть до 1985 года. Долгая эпоха «застоя», почти не оставившая по себе серьезных свидетельств [64], умерла с Брежневым, но кончаться не хотела. Место умершего Генсека занимал полумертвый, за ним — дышащий на ладан. В эти похоронные годы автор «Реквиема» защищал диссертацию на тему «Погребальный обряд восточных и южных славян» (специальность: «этнолингвистика») [65]. Речь в ней шла о реконструкции самого архаического, дохристианского слоя погребальной обрядности. Те, кто организовывал государственные похороны в эти годы, не были знатоками языческих, и тем более, христианских ритуалов погребения: государственной религией оставался «научный атеизм». Сами, как могли, они смастерили некий новый ритуал. Нужно совсем не представлять себе традиционного язычества, чтобы видеть в советских (и вообще тоталитарных) ритуалах что-то языческое. Другая вера, другая обрядность. Население страны наблюдало этот пышный ритуал по телевидению: первый, второй, третий раз…
Но почему поэт самиздата, «второй культуры», взялся оплакивать Генсека Компартии — причем оплакивать всерьез? Это остается необъяснимым для самого автора:
Но сердце странно. Ничего другого
Я не могу сказать.
Смысловая острота «Элегии» заключена именно в этом парадоксе. Перед лицом «Смерти-Госпожи» и Генсек оказывается человеком, достойным разговора — разговора с ним и о нем. «Реквием» Анны Ахматовой (в то время не опубликованный в Советском Союзе, но известный читателям сам- и тамиздата) — надгробная жертва убитым и замученным. Для них Ахматова соткала «широкий покров» — погребальный покров.
Непогребенных всех — я хоронила их.
Но реквием Генсеку Компартии!
В действительности и у этой «Элегии-Реквиема» центральная тема — тема жертв,
От кесаревича до батрака.
Это часть 6. Притом, что сочинение посвящено смерти Генсека («и даже двух») и его призрак царит на сцене — вопрос о жертвах остается трагической сердцевиной и настоящей побудительной причиной для сочинения этих надгробных стихов. Однако жертвы здесь — не только «чистые жертвы», убитые и замученные («безвинная Русь», как у Ахматовой). Здесь есть еще «другие жертвы»: жители эпохи позднего социализма, общества почти тотально коллаборационистского, заплатившего за относительно благополучное существование лояльностью и знаменитым «двоемыслием». Их («нас») вместе со своим главным героем оплакивает «Элегия». В советскую лояльность входило одно условие, казавшееся автору «Элегии» самым страшным: молчать о жертвах режима в собственном смысле слова (уже «реабилитированных» в хрущевскую оттепель, уже помянутых в солженицынском «Архипелаге ГУЛАГ», который просвещенная публика читала, несмотря на то, что само хранение «Архипелага» в доме могло быть вменено как уголовное преступление), никаким образом не увековечивать память невинно убитых. То есть предать их — как того и хотел достичь режим — «второй смерти», полному забвению. В этом смысле сказано:
Убитые по нашему согласью.
«Другими жертвами» [66]автор называет своих современников потому, что в результате маленьких сделок с людоедом они (мы) оказались лишенными человеческого достоинства. А заодно — молодости, совести, языка и т. п. (см. часть 6).
Гамлетовский Призрак, который появляется здесь (как и в «Путешествии в Брянск»), — это та самая память о миллионах жертв, которую в брежневские годы не с кем было разделить. Чувство коллективной национальной вины в этом сочинении оказывается ante litteram предсказанием тех перемен, которые через некоторое время начнутся, сначала под названием «гласность», а затем — «перестройка».
Итак, известие о смерти «второго властелина», полученное на лекции об Аристотеле, помогло завершить текст, брошенный автором в Салтыковке.
Вплоть до 90-х годов «Элегия, переходящая в Реквием» оставалась в самиздате, затем была опубликована в киевском журнале «Философская мысль» и затем в перестроечном журнале «Век XX и мир».
Жанр указан в названии: «Элегия, переходящая в Реквием». Прокомментируем второй термин, «реквием» [67]. Однажды один католический священник, профессор теологии, спросил ОС: «Почему Вы, православный человек, пишете реквием, а не панихиду»? «Панихида — литургическая реальность, — отвечала ОС, — а реквием в нашей традиции воспринимается как высокий светский жанр. Поэт может сочинить „реквием“, но не может — панихиду». Примером такого светского реквиема для ОС был «Реквием Вольфу графу фон Калкройту» P. M. Рильке, который она перевела [68](кстати, все реквиемы Рильке написаны белым ямбом шекспировского звучания, стихом нашей «Элегии»). В отличие от Рильке (и Ахматовой [69]) этот «Реквием» прямо связывается с каноническим текстом латинского «Dies irae», цитируя его или отсылая к его образам. Впрочем, в нем есть цитаты и из православных песнопений панихиды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: