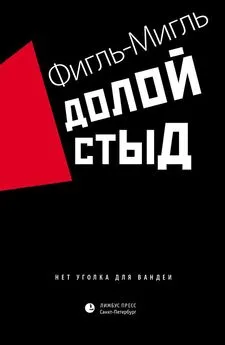Фигль-Мигль - История цензуры
- Название:История цензуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2003
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фигль-Мигль - История цензуры краткое содержание
Фигль-Мигль — человек с претензией. Родился некстати, умрет несвоевременно. Не состоит, не может, не хочет. По специальности фиговидец. Проживает под обломками.
История цензуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Книгопечатание — это не только бóльшая доступность, бóльшая безнаказанность, бóльшая и притом анонимная власть над умами, это власть над техническим прогрессом, то есть над будущим. (Так и началось Новое время: когда оказалось, что будущее будет, и многим оно стало небезразлично.) Книга долговечнее, бесстрашнее, убедительнее и неуязвимее человека, ее голос громче человеческого — в XV и XVI веках он еще не пришел, конечно, в каждый дом, как теперь телевизор, но уже догадался о своей потенциальной вездесущности, и, кроме того, изменился его тембр: рукопись перенимает интонации читающего, печатный текст навязывает свои. Напечатанное еретическое сочинение не просто мысли еретика, но сама ересь. Тот, кто с ней борется, вынужден бороться не с одним опасным человеком, тело которого так хрупко, а с жилистой и живучей метафизикой, с силой нематериальной, легко сбрасывающей и меняющей свои многочисленные бумажные тела.
Сперва власти (прежде всего — церковные, чутко отреагировавшие на несанкционированное появление Святого Духа) пробуют искоренять зло по старинке: уничтожать авторов, издателей — короче говоря, посредников. Пробуют уничтожать книги. Попробовали — что было наиболее разумным — уничтожить само книгопечатание, но здесь не заладилось: то ли по случайности, то ли прогресс действительно не затолкнешь туда, откуда он вылез, то ли Святой Дух поизобретательнее своих наместников. И вот книги жгут, авторов жгут, а дело не делается. Суровость законов о печати — на выбор костер, позорный столб, клеймение, галеры, утрата ушей и всего такого — некоторых не отпугивает; даже в виду бодрящих примеров некоторые охотно жертвуют ушами, честью, жизнью — не сморгнув, обустраиваются в застенках инквизиции. В 1546-м в просвещенном Париже сожгли Этьена Доле, а в 1757-м — двести лет как-никак на то, чтобы образумиться, — французскому королю приходится опять вводить указом отмененную было смертную казнь за сочинения, “содержащие нападки на религию, склоняющие к возбуждению умов или колеблющие спокойствие государства”. Мир еще велик: можно тиснуть книжонку и пуститься в бега; можно цинично опустить одного государя и приютиться при дворе другого, враждебного первому; можно играть в игры Аретино… Техника совершенствуется, грамотность возрастает, спрос и предложение словно наперегонки ломятся в приоткрытую дверь, короли и папы предаются раздумью. Поскольку дребедень эта затягивается, по-видимому, надолго, наносить ответный удар нужно с соразмерной обстоятельностью. Делать на века. Основательно. А что может быть на века, как не бюрократия? Что основательнее административного произвола?
Технически возможны два вида цензуры: карательная и предварительная. Либо вы публикуете книгу на свой страх, имея перспективу угодить в лапы правосудия — будь то инквизиция или вдумчивый суд присяжных, — либо подаете рукопись на рассмотрение в соответствующее ведомство, специально обученным людям. Вы как думаете, дорогой друг, чтó автору психологически проще: подготовиться к костру или годами бродить по инстанциям, неведомо что объясняя и неизвестно в чем оправдываясь? Потом получаете свою тетрадку — а там “знаки роковых когтей”. А если вам вернут вашу писанину не только с избранно вымаранными местами, но и со вставками, противоречащими вашей мысли? А если вы трусоваты, не знаете, чего держаться, а боитесь всего — как Даль, — будете только письма к конфиденту наполнять жалобами: не отгадаешь, дескать, ни по каким приметам, что можно, а чего нельзя. (Это 1840 год, разгар благополучия.) А захотите издавать новый журнал — ответят: “и без того много”. И раз уж всплыл 1840 год, то попытайтесь вспомнить, что еще десяти лет не прошло, как наше всё начертал — а опубликуют это “Путешествие из Москвы в Петербург” лишь в следующем, 1841-м, с большими цензурными пропусками — свою оду предварительной цензуре:
“Грамота не есть естественная способность, дарованная Богом всему человечеству, как язык или зрение. Писатели во всех странах мира суть класс самый малочисленный. Очевидно, что аристокрация самая мощная, самая опасная — есть аристокрация людей, которые на целые поколения, на целые столетия налагают свой образ мыслей, свои страсти, свои предрассудки. Никакое богатство не может перекупить влияние обнародованной мысли. Никакая власть, никакое правление не может устоять противу всеразрушительного действия типографического снаряда. Уважайте класс писателей, но не допускайте же его овладеть вами совершенно. ‹…› Действие человека мгновенно и одно; действие книги множественно и повсеместно. Законы противу злоупотреблений книгопечатания не достигают цели закона; не предупреждают зла, редко его пресекая. Одна цензура может исполнить то и другое”.
Комментаторы упорно пишут, что Пушкин говорит не то, что думает. С чего бы это? Он что, под пыткой откровенничал? Или это единственное, чем замаралось солнце русской поэзии, — не было “Стансов”, “К друзьям”, географических фанфаронад? Зачем же, о комментаторы, обвинять человека в небезвредном для его репутации вранье. Тут всего лишь апофеоз логики, предсказанный еще Вяземским: “Когда решишься быть поэтом событий, а не соображений, то нечего робеть и жеманиться — пой, да и только”.
Ой, ну куда вы укатились: начали с Этьена Доле — за что его, кстати? — и вдруг — хлоп: в Даля плюетесь, в наше всё плюетесь — нашли колодец. Да не пить же из него, в самом деле? А Доле — не иначе как за два тома “Комментариев к латинскому языку”, а также бездарность, бессилие и, само собой, безбожие. Человека сожгли, а вы шутите. Отчего же не пошутить, если сожгли не нас, а кого-то другого. Что, опять начнем заново? Пожалуй. История цензуры.
Предварительная цензура укрепилась быстро и просуществовала долго. В Англии ее, правда, отменили еще в 1694 году — но это уж такая страна замечательных чудаков и оригиналов. (“Отечество поврежденных”, как Герцен брякнул, имея в виду английскую лояльность ко всем формам уголовно ненаказуемого помешательства.) В других отечествах цензура дотянула до XIX века: во Франции ее отменила конституция 1830 года, в Германии в 1848-м приняли французскую систему штрафов и предупреждений, в России в 1865-м провели реформу, отменив, например, предварительную цензуру для оригинальных сочинений объемом свыше 10 п. л. (В логике “да кто их будет читать”. Все притеснения, проблемы и штрафы — и уточнения к реформе 65-го в 72-м — упали на периодическую печать. Потому что журнальная деятельность, как Иван Киреевский заметил, есть “необходимый проводник между ученостию немногих и общею образованностию”. Немногие читают и пишут книжки ненормального объема, занимаясь воспроизводством немногих же, малоизвестных и мало кому нужных. А публика читает журнальчик, газету… публика — это ведь кто угодно… детишки и невинные девицы смотрят телевизор… Проводник, может, и необходим, но он должен сознавать свою ответственность, иначе в какой лес, к каким краснорожим он их приведет? Дальше понятно; самое главное, что простая логика требует, чтобы пекущиеся были снабжены опекаемыми. И еще понятно, почему теперь публика читает не простые журналы, а глянцевые: в них пропорция между немногими и всеми соблюдена во вкусе умной старины. Смеетесь? Вовсе нет. А телевизора-то тогда не было!)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: