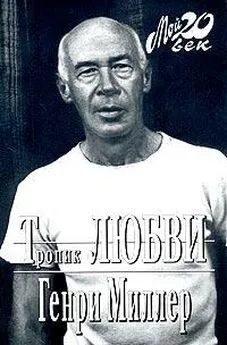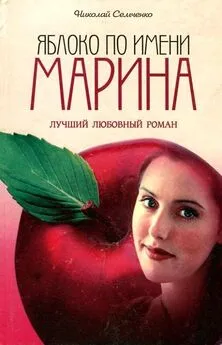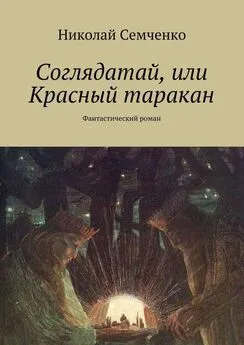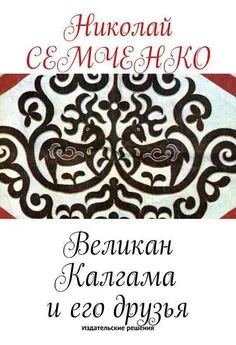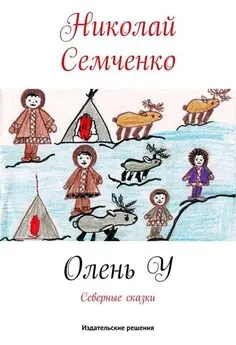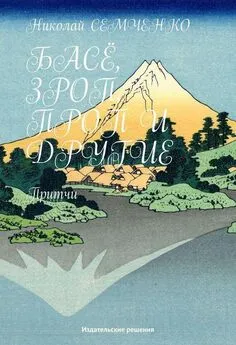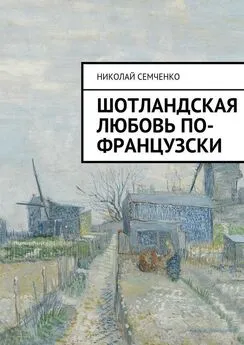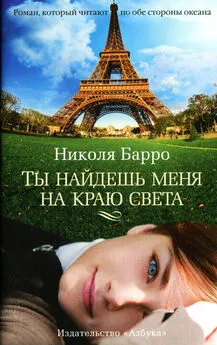Николай Семченко - Горизонт края света
- Название:Горизонт края света
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-0221-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Семченко - Горизонт края света краткое содержание
Молодой журналист Игорь Анкудинов после окончания университета едет работать на север Камчатки – в Пенжинский район, известный на весь мир мощными приливами в устье реки Пенжина.
Именно через этот район на Камчатку когда-то шёл шёл отряд первых русских первопроходцев Владимира Атласова. Среди казаков был и некто Анкудинов – то ли родственник, то ли однофамилец.
Игорь Анкудинов поехал работать в редакцию маленькой районной газеты на север Камчатки, потому что надеялся: профессия журналиста позволит поездить по этим местам и, возможно, найти какие-либо следы первопроходцев.
Что из этого вышло – об этом читайте в книге…
Горизонт края света - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рядом с вазой лежал толстенный фолиант «Описания земли Камчатской» Крашенинникова. Этой книгой когда-то зачитывался Пушкин и даже хотел написать роман о жизни камчатских аборигенов. Бабушкино письмо и лежало в этом темно-коричневом томе.
Так, развернём-ка сложенные листочки.
«Здравствуй, внучек Игорёк!»
Ну, тут про погоду, внезапный летний заморозок (как вам это словосочетание?) – пропустим это место. Ага, вот он, нужный фрагмент: « Слово «Камчатка» произошло, наверное, от якутского слова «камчаакытан», – писала бабушка. – Кстати, от своей матери слышала сказки о стране, называемой таким именем. «Камчаа» – глагол, обозначающий движение, колебание, «ыттан» – взбираться наверх, карабкаться. Вполне отвечает старинным представлениям о крае света: там много гор, которые трясутся, а из их нутра вырываются языки пламени…
А ещё, Игорь, было в русском языке такое слово – «камчатый», то есть кривой, извилистый. Может, название полуострова – от него? Ведь казаки увидели здесь немало петляющих рек, крутых сопок, кривых гор…»
Бабушка – преподаватель русского языка, и, конечно, уж ей-то виднее, от каких слов образовалось другое – Камчатка. Но, может, и она не права? В одной старинной книге я прочёл: когда первопроходцы открыли Чукотку и стали объясачивать местное население, то узнали о существовании племени коряков.
Коряки – жители севера Камчатки, но кочевали и по территории чукчей: пасли тут стада своих оленей. От коряков русские могли услышать слово «кончало» – так аборигены называли племя камчадалов, живших на реке Камчатка. Может произошла трансформация этого слова: Кончатка – Камчатка?
В общем, как бы там ни было, потянулся к новой земле вольный казацкий люд. И в числе первых волею судеб оказался мой однофамилец. Или не однофамилец, а родственник?
Как ни старался, узнал я о нём очень мало. В малоизвестном очерке всё того же Крашенинникова «О завоевании Камчатской землицы, о бывших в разное время от иноземцев изменах и бунтах служивых людей» огнём ожгли меня строки о Федоте Попове:
«… весною на том же коче из устья Камчатки реки в море вышли и, обошед Курильскую лопатку, шёл по Пенжинскому морю до реки Пареня, где он с товарищами зазимовал.» И будто бы там кто-то из своих же казаков его зарезал. И тогда коряки, почитавшие русских выше смертных (как-никак у них имелись чудесные «огненные палки» – пищали!), убедились: пришельцы – не боги, они обычные люди, которые тоже умирают. И напали корякские воины на казаков, и побили их. Господи, это ж совсем рядом с Каменным происходило – на реке Парень.
Кто мог набраться такой смелости – убить самого Попова? Наверное, это был человек, не желавший делить с ним власть? Может быть, Крашенинников, побывавший на Камчатке через сорок лет после её открытия, услышал от стариков-аборигенов ещё какие-то подробности, но не стал их описывать, отложил на потом? А «потом» не наступило… Но, возможно, он знал, что тем злодеем и был как раз Анкудинов, но ему не хватало веских доказательств? Навряд ли русские люди, оказавшись в незнаемой стране, разъединились: один направил коч к Парени, а другой остался на Федтовщине. Скорее всего, они пришли на Парень вместе, и уже тут Анкудинов устранил соперника.
Впрочем, всё это – хлипкие догадки. Подтвердить или опровергнуть их могли те самые кресты, которые казаки обязательно ставили на переправах. А дощечки? Те самые, о которых говорил Лёше его дед. Может быть, действительно: с одной стороны их исписал какой-нибудь казак-первопроходец. И нет ли в тех записях сведений о первых русских людях, увидевших Парень и Пенжину? Ах, как мне хотелось это узнать! Словами, пожалуй, и не выразить это чувство, сладкое и мучительно щемящее. Оно возникает, когда столкнешься с каким-нибудь странным или загадочным случаем ли, фактом ли, но его причины не ведаешь – и эта тайна занимает и мучает тебя не меньше, чем любителя детективов при чтении романов Агаты Кристи.
Да, не спится что-то. Уже и книги полистал, и детство вспомнил, и бабушкино письмо перечитал, но – закрою глаза и – лежу, лежу, и хоть бы задремал – ну, никак! А тут ещё эта моя странная особенность: хорошо запоминаю запахи и краски, а через них – всё, что с ними связано. Вот и ромашки в красной вазе вызвали в памяти давнюю сценку. Стою на высоком зеленом пригорке, внизу – железнодорожная колея, а вдоль неё – розовый иван-чай, желтенькая «куриная слепота» – так мы, дети, называли лютики, но больше всего – ромашки! И в руках у меня большой букет из них. Жду поезда. Обычно в это время мимо села, не сбавляя скорости, проносился фирменный «Владивосток – Москва». О его приближении оповещало еле-еле слышное перестукивание колёс, будто где-то далеко блестящий молоточек весело забивал серебряные гвоздики – сначала осторожно, медленно, затем всё быстрее и быстрее, горячо и азартно – и, наконец, состав вылетал из-за поворота: за большим темно-зеленым тепловозом мчались красные вагоны с надписью «Россия». Мелькали окна, закрытые тамбуры, буферы, снова – окна… Я не успевал толком разглядеть людей, сидящих и стоящих за ними, но всё равно махал, махал им букетом ромашек. Ах, как хотелось и мне туда, в уютное купе – это так замечательно: проехать всю страну, увидеть её и узнать! Меня тянуло неведомое, и с детства хотелось уехать в дальние края. Смотрел, бывало, на горы, смутно синеющие в легком мареве на горизонте, – только в ясную погоду показывались их вершины, – и представлял, как пойду к ним сначала по ровному полю, с него сверну в частые, светлые от берез рёлки 3, спущусь в логи 4, а уж от них начнутся дауры 5, куда отец ездил зимой за дровами, тут придется продираться сквозь дебри, всё выше и выше – туда, где горы и облака, но за крутым перевалом, конечно же, – другая жизнь, новые люди, всё необычно, волнующе и прекрасно…
Как-то я рассказал о своей детской мечте ОВ. Она бросила на меня быстрый, насмешливый взгляд и медленно протянула:
– Рома-а-а-нтик… Надо же!
И, помолчав, добавила:
– Даже и не подумаешь, что зануды тоже бывают романтиками.
Может, в шутку, а может, всерьёз она называла меня занудой. Только за то, что однажды я рассказал ей о поисках, связанных с происхождением своей фамилии. Это показалось ей неинтересным и скучным занятием.
Не спится, не спится… И то ли прозрачно-белая ночь тому виной, то ли думы о предстоящем походе…
Подскочил я от резкого звона будильника. Прихлопнул кнопку, надеясь ещё минуту-другую подремать, но не тут-то было: снова раздался ехидный дребезжащий звук: проклятые часы не оставляли в покое, пока не кончался весь завод звонка. Это мамин подарок. Она прекрасно знала, что если меня не поднять сразу, то я снова задремлю и, конечно, просплю работу. И где она нашла именно такой будильник?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: