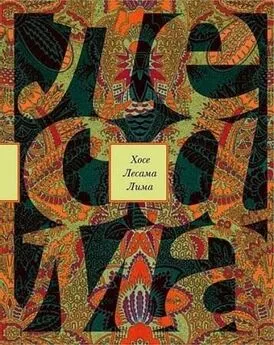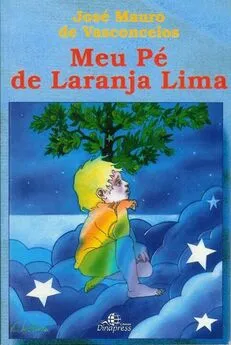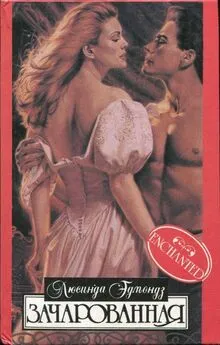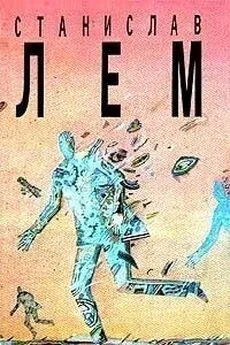Хосе Лима - Зачарованная величина
- Название:Зачарованная величина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Ивана Лимбаха
- Год:2012
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-169-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Хосе Лима - Зачарованная величина краткое содержание
Хосе Лесама Лима (1910–1976) — выдающийся кубинский писатель, гордость испанского языка и несомненный классик, стихи и проза которого несут в себе фантастический синтез мировых культур.
X. Л. Лима дебютировал как поэт в 1930-е годы; в 1940-е-1950-е гг. возглавил интеллектуальный кружок поэтов-трансцеденталистов, создал лучший в испаноязычном мире журнал «Орихенес».
Его любили Хулио Кортасар и Варгас Льоса. В Европе и обеих Америках его издавали не раз. На русском языке это вторая книга избранных произведений; многое печатается впервые, включая «Гавану» — «карманный путеводитель», в котором видится малая summa всего созданного Лесамой.
Зачарованная величина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В первой «Поэме уединения» царит доказательство от небесного, испытание гелиотропом: все сгорает и воссоздается. Во второй — все обречено исчезновению, потому что икаров ветер слабеет и надламывается. Когда путник предстает изумленным горцам, тут же следует намек на превращение Клитии {105} 105 Клития — в греческой мифологии нимфа-океанида; влюбилась в бога солнца Гелиоса-Аполлона, умерла от тоски по нему и была превращена в вечно поворачивающийся за солнцем цветок-гелиотроп ( Овидий. Метаморфозы, IV, 207–270).
в гелиотроп. Очерчивается область, замкнутая между поэтическими полюсами — наместником Гелиоса гелиотропом и магнитом, присягнувшим на верность Полярной звезде. Лишь только сон пут ника миновал, ветер стирает число и меру его шагов, отсылая к свойствам магнита. Поэзия Гонгоры двуполярна: среда ее преломления заключена между ослепительной лучезарностью гелиотропа и магнитом, устремленным к одной точке — Полярной звезде. Его предметы — кудри и снасти, рыбы и соколы — будто стремятся к итоговой оси преломления: отвесный луч любой метафоры обязательно переламывается, входя в эту гелиотропную гладь. Подставленные свету соколы и морские угри доходят до предела сияния, чтобы потом по памяти опереться на поддержку гелиотропа. В апогее яркости предметы у Гонгоры словно захлестнуты скачущей охотой, этой мгновенной толчеей намагниченных опилок Появившийся на холме козопас, кажется, выбит на рельефе гелиотропного испытания, но вдруг захвачен толпой охотников, к которым, точно к осколкам магнита, сходятся маршруты самых рискованных и блистательных полетов. Торс воинственного пастуха словно изгибается под двойным воздействием спазматической вспышки и магнитного притяжения, в противоборстве двух этих сил, обращающих вихрь в охоту, а толпу — в нахмуренное и растянувшееся шествие.
Между полюсами гелиотропа и магнита Гонгора создает и укореняет для нашей культуры южное коварство зрения, сведенного лишь к видимому миру. Если он указывает на дерево (дерево, которое делится с женщиной обломками коры), то потом выпускает бесчисленных кроликов и пчел. И вот они, подобно щебету клавикордовых снастей, уже заключены между деревом преображения и ученейшей козой Амалтеей. В замкнутом поэтическом поле, где копье отвесного луча и толчея опилок вдоль силовых линии магнита вновь и вновь воссоздают противостоящие полюса и замкнутые круги, Гонгора чертит тонущие и всплывающие цифры одушевленного контрапункта, так что свет его мерцает, будто исходя ощутимыми частицами. Дерево противопоставлено кролику, коза — пчеле, и все они словно точки поэтического поля, где царит процеженный тополиными кронами свет, после того как на пышном пиру по предложениям и советам луны для коварных преображений каждой рыбы подобрана наилучшая сеть. В первой «Поэме уединения» готовящаяся танцевать героиня должна сначала смешаться с шествием девушек, чьи фигуры как бы предваряют гибкость ее танца. Она не принялась бы за свое изваяние, если бы не была стерта и преображена фигурами идущих мимо подруг. Сначала появившаяся у озера, первая танцовщица теперь ищет свой образ на морском берегу, продвигаясь и отступая в густом тумане. Потом она предстает в виде девушки с венком на голове и наконец — с черным грифелем в белых пальцах. В изменчивых чертах трех девушек, в излучении их отсветов образ танцовщицы как бы отвердевает, обрисовывая противостоящий времени лик Гонгора, на наш взгляд, знаменует в романских культурах торжество гелиотропного испытания. Ось его света отмечает средоточие, откуда бьет луч метафоры, и время, отпущенное ему в пределах сияющего пространства. Отмеряя светобоязненное время, Гонгора взыскует единственного смысла, отвердения поэтического логоса — не западни различных истолкований, но единственного и недосягаемого смысла. Это своего рода испытание анемоном, противоположность гелиотропному, когда ждешь, что осененный растительной плотью бриз во всей своей полноте раскроется образу. Испытания анемоном пылкий и спорый стих Гонгоры не выносит, скорее когтя предметы, чем укрываясь в их просторной сени. Но нет в нем и коварства гетевской любимицы омелы с ее жилковатым плавучим листом и повторенной звездами кровлей, прилепившейся к берегу. Его южному коварству далеко до этой изобретательности под диктовку звезд.
Повинуясь воле зенита, любая выпуклость как бы следует за гелиотропным испытанием, но, не отчеркнутая тенью, теряется в однородном свете, в нераздельном луче, среди световой очевидности. Предмет словно насупливается перед световым разрядом, сторонится его, исчезая из виду. Испытание гелиотропом — акт героический, волевой, а испытание анемоном навеяно извне, внушено ночью и послушно прихотям бриза. Два эти испытания понуждают поэзию жить бдением глубин, неспешно распределяя клеточки воздуха по человеческому телу или растительной плоти. Испытание же омелой, сведение к абсурдной изнанке звездного неба, делает стих Гонгоры еще неповоротливей: его всегда отдельные фрагменты не в силах слиться в апейрон, войти в область целокупного, что и обращает метафору в едва ли не основного героя поэмы, разбивая общее повествование на разрозненные эпизоды.
Гонгора не решается следовать склонности Ренессанса к Нептуну и его прибрежным нимфам. Это окончательно проясняется, когда он сравнивает неведомую ему Америку с племенем лестригона Антифата {106} 106 Лестригон Антифат — в десятой песни «Одиссеи» предводитель племени великанов и людоедов.
. Он видит в людях инкунабулы лишь буйных и прожорливых лестригонов. Временами во второй «Поэме уединения», ее берегах и потоках, чувствуется одиннадцатая рапсодия «Одиссеи» {107} 107 Одиннадцатая рапсодия «Одиссеи» — имеется в виду одиннадцатая песнь «Одиссеи», где главный герой спускается в царство мертвых и вопрошает о будущем.
: влага медового напитка, вина, воды и крови черного ягненка, которую проливают в жертву Гадесу, обращаясь к мертвым. Эту гиблую ночь символизирует Аскалаф, сыч, наушничающий Юпитеру и прилетающий обратно в подземное царство. Печальный и ропщущий философ, мученик точности Аскалаф поставлен замечать, когда луна спускается в ад. Вымокнув в кипящих адских водах, Аскалаф обращается в сыча — клеветника и наветчика. Это он доносит Юпитеру, что Прозерпина, подобно неверной жене, половину года проводит в аду с Плутоном, а другую, когда луна ускользает из ада, — с матерью Церерой. Его сдерживает то же, что Одиссея Лаэртида, — страх перед головой Медузы, чудовища, извергнутого Аидом. Гонгорианские чудовища и сошествия в ад неразрывны с греко-латинским воображением. Порой выходишь из себя, видя, как дон Луис тратит властительный луч поэтического познания на эквилибристику в пресловутом жилище чудовищ-лестригонов. Расколись этот луч о новые координаты и маски, о новую дрему растений, и Гоншра, быть может, одолел бы ту раздражающую небрежность, которая цепенит всякий порыв и поиск в конце «Поэм уединения». Его хищнически захваченные владения, казалось, объединившие в стихе крепость римского кварца с волшебным светом Кордовы и Багдада, теперь раздроблены, разбиты, разделены на сотни неповоротливых метафорических башен желчного и тягостного пресыщения, сведясь к тому, чтобы опознавать и без того известных лестригонов. Его луч создан вонзаться, подчиняя все новых чудовищ. Его светоносность, его, быть может, самый тугой среди наследников Рима лучевой сноп, в финале ослабевает: рожденный для предвидений, свет после всех древесных метаморфоз выхватывает и озаряет старинные маски и долгожданное второе рождение.
Интервал:
Закладка: