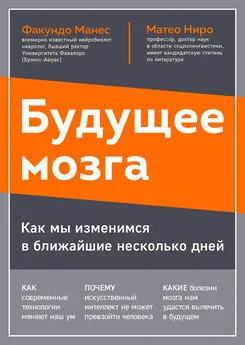Манес Шпербер - Как слеза в океане
- Название:Как слеза в океане
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1992
- Город:Москва
- ISBN:5-280-01421-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Манес Шпербер - Как слеза в океане краткое содержание
«Всегда, если я боролся с какой-нибудь несправедливостью, я оказывался прав. Собственно, я никогда не ошибался в определении зла, которое я побеждал и побеждаю. Но я часто ошибался, когда верил, что борюсь за правое дело. Это история моей жизни, это и есть „Как слеза в океане“». Эти слова принадлежат австрийскому писателю Манесу Шперберу (1905–1984), автору широко известной во всем мире трилогии «Как слеза в океане», необычайно богатого событиями, увлекательного романа.
Как слеза в океане - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дойно показалось, что он снова впервые видит профессора, снова слышит его слова:
— Эти люди, которые не могут жить без мнения, как пьяница без водки, эти слизняки, думающие, что им принадлежит будущее, потому что им, как они полагают, принадлежит настоящая минута, хотя это они сами принадлежат ей, — все они даже не подозревают, что просто не понимают меня. Они так и не поняли, что настоящее — это фикция, без которой бытие утекло бы у этих тварей между пальцами как вода. Настоящего просто нет. Сейчас — уже не сейчас, едва мы успеем произнести это слово. Этим фанатикам настоящего и поборникам будущего мы должны противопоставить сознание прошлого, мы должны спасти от них будущее, сохранив для него те ценности, которые они хотят пожертвовать настоящему. Если историк действительно хочет понять прошлое, не став при этом жертвой легенд, он должен рассматривать его так, как если бы оно было настоящим. Чтобы избежать субъективизма, он должен рассматривать настоящее так, как если бы оно уже стало прошлым. В своем отношении ко времени все сущие страдают манией величия, паранойей. Историком можно стать только ценой отказа от этого безумия.
Дойно, тогда еще откровенно юный и нетерпеливый, скоро, хотя и неохотно, признал, что этот щуплый, всегда безупречно одетый человек с вечно простуженным голосом был вовсе не консерватором, а, если такое вообще возможно, консервативным революционером. Позже он оставил всякие попытки как-то его классифицировать. Нет, он не поддался на агитацию, хотя, исходя от Штеттена, она была достаточно лестной; он поддался обаянию человека, на которого, как ему казалось, походил и сам — приемами мышления, его техникой, но почти никогда — содержанием.
Теперь, подходя к старому, невысокому, но очень широкому дому, порог которого он столько раз переступал с замиранием сердца, Дойно думал, как бы подводя всему итог: «Встреча со Штеттеном начиналась как очередное юношеское приключение. Это была добрая и нужная встреча, раз она пережила даже воспоминания о других приключениях. То, что я его встретил, великое счастье. Пойти по его стопам было бы ошибкой, но и расстаться с ним — тоже».
Лишь после нескольких звонков дверь открыла горничная, не знакомая Дойно. Она не скрывала, что столь ранний визит явился для нее неприятной неожиданностью. Он попросил доложить о нем профессору, тот наверняка его примет.
Через некоторое время девушка провела его в кабинет. Войдя, он услышал голос профессора:
— Садитесь, Фабер. Вы явились минута в минуту — очевидно, это ваши кашубы приучили вас к такой прусской пунктуальности?
Голос доносился из-за старинной, затянутой гобеленами ширмы. Дойно ждал. Через некоторое время ширма немного отодвинулась. Дойно увидел, что профессор сидит на скамеечке, низко склонившись над большим ящиком.
— Славно отделали моего Волка, — произнес Штеттен, все еще не оборачиваясь к гостю. — Ничего, Волк, теперь все будет хорошо. Если мне снова придется куда-нибудь уехать, ты поедешь со мной.
— Что случилось с Волком, профессор? Он заболел? — спросил Дойно.
— Да, — ответил Штеттен, продолжая заниматься собакой. — Его отравили. Собственно, этого и следовало ожидать от той разини, которую госпожа профессорша недавно изволила нанять к нам в горничные. Между тем ей хорошо известно, что у меня нет никого на свете, кроме моего доброго Волка, следовательно… Мало того что о нас забывают, что завтрак нам подают только в девять, что о наших любимых блюдах и не вспоминают, а вместо этого кормят холодными пудингами и тому подобной дрянью, — к нам в дом впускают уже не только этих тупиц, приятелей моего на диво скромного сына: недавно госпожа профессорша распахнула свое старое сердце, а тем самым — и двери моего дома перед национал-балбесами со свастикой на рукаве, — нет, этого мало, они хотят еще поразить меня прямо в сердце, метя в сердце моей бедной собаки. Что же вы не садитесь, Фабер, на каком стуле вы тут всегда сидели?
Дойно сел.
— Да, Волк, — продолжал профессор, — нам с тобой сегодня оказали великую честь, о нас вспомнили и милостиво решили уделить нам немного драгоценного времени, посвященного обычно сочинению разной партийной околесицы и самоуничижительных записок. Спокойствие, Волк, спокойствие! Не будем ничего говорить этому человеку о том, что мы похоронили Диона достойнее, чем он умирал, и не будем хвалить гордого Диона в лице этого Фабера, который его у нас отнял. Да, да, блюй на здоровье, милый Волк, мы оба с тобой уже поняли, что такое этот мир. — Штеттен снова занялся собакой. Дойно сделал то же, что ему приходилось делать достаточно часто, — он стал ждать, пока профессор немного успокоится и изложит ему причины своего столь сдержанно высказанного гнева в понятных выражениях, так сказать, прямым текстом.
Но в этот раз действительно все было не так. Профессор молчал, собака тоже не издала больше ни звука — возможно, ей стало легче и она наконец заснула. Дойно знал, что он должен сидеть и ждать. Он охотно бы вынул утренние газеты, которые купил по дороге и еще не успел прочитать, но был уверен, что Штеттен воспримет это как оскорбление.
Дом стоял на тихой улочке, шум сюда почти не доносился. Лишь дважды, с коротким промежутком, открылась дверь на лестницу — и снова нетерпеливо захлопнулась.
В этой длинной, не слишком светлой комнате Штеттен писал свои статьи, импровизировал, так сказать, свои лекции, думал Дойно. Все, что было яркого и удивительного в жизни этого человека, создавалось в пределах этих нескольких кубических метров. Те, кто упрекал его в лени, не подозревали, каким страстным читателем был этот Штеттен. А те, кого он громил, и не догадывались, сколь досконально знал он каждую строчку из всего написанного ими. Писал и говорил этот человек быстро, но каждая фраза, каждое предложение были обдуманы и проверены со всех сторон. Другие держали свои знания в картотеке, Штеттен же все держал в памяти.
Старик всю жизнь упорно трудился, и только дураки могли принимать всерьез его аристократически-праздную манеру держаться — что от нее теперь осталось? Неужели он действительно «бросил это дело» — что осталось от его дела, что осталось от него самого?
Он все еще красит волосы, не хочет выглядеть стариком, хотя он уже стар. Вот он сидит передо мной, но старым выглядит только его халат. Возможно, он и меня переживет. А ведь он уже и для той войны был стар. Была и революция, и контрреволюция, но он прошел через них, так сказать, не замочив ног. Он никому и ничем не обязан. А я, пожалуй, единственное существо, если не считать его собаки, которое чем-то обязано ему.
«Если я на смертном одре скажу вам, что мне никогда не угрожала опасность утратить уважение к самому себе, тогда вы убедитесь в том, что моя жизнь достойна подражания», — повторил бы Штеттен эти слова сегодня? Все ли еще он уверен, что никогда не обманывал себя?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


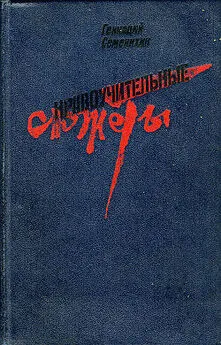


![Василий Маханенко - Слеза Альрона [СИ]](/books/1068744/vasilij-mahanenko-sleza-alrona-si.webp)