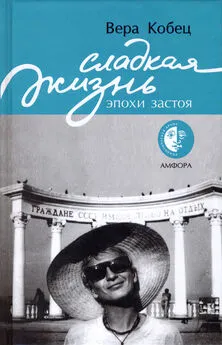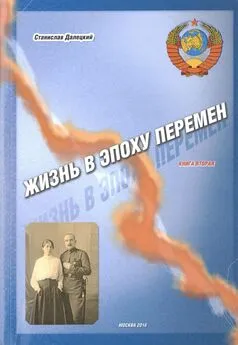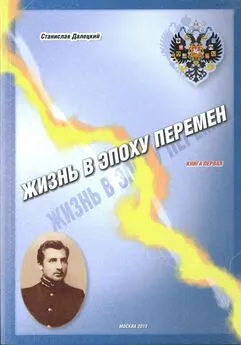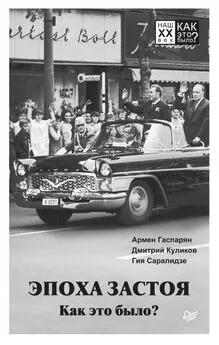Вера Кобец - Сладкая жизнь эпохи застоя: книга рассказов
- Название:Сладкая жизнь эпохи застоя: книга рассказов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2005
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-94278-905-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Кобец - Сладкая жизнь эпохи застоя: книга рассказов краткое содержание
Рассказы, вошедшие в эту книгу, возвращают читателя в недавнее, но уже так далеко отодвинувшееся прошлое. Лирические фрагменты и смешные, с горчинкой, истории складываются в картину эпохи, становясь своеобразными «свидетельскими показаниями». Блестящий прозаик и тонкий стилист, Вера Кобец рисует свою картину мастерски и проникновенно.
Как известно, история повторяется дважды. Впервые потерянным поколением были названы сверстники Хемингуэя. Полвека спустя похожая участь выпала на долю опоздавших к оттепели и не вдохнувших в юности «глотка свободы». Это наше потерянное поколение… Чего больше в их жизни — трагедии или фарса? Как справлялись они с остановленным «бегом времени»? Книга «Сладкая жизнь эпохи застоя» — своеобразная попытка ответить на эти вопросы.
Вера Кобец — прозаик, переводчик, востоковед по образованию, печатается с конца 80-х гг. По словам критиков, в ее прозе чувствуется «давно забытый набоковский и бунинский аромат… радость прикосновения к подлинному, охватывающая с первых страниц и не отпускающая уже до конца».
Сладкая жизнь эпохи застоя: книга рассказов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Выпей, — жена наклонилась над Человековым, в руках у нее был какой-то стаканчик.
— Что это? — спросил он недоуменно.
— Настой шиповника. Ничего страшного, ты просто раскашлялся.
— Мне снилось, что я в больнице, — невольно пожаловался Человеков.
— Ты зверски устал, — ответила Таня разумным, спокойным, приятного тембра голосом. — Я вчера разговаривала с Литовцевым. Он готов выдать тебе неделю, как компенсацию за работу в вечернее время. В субботу отвезем ребят к бабушке, а сами — на Иссык-Куль. Там озеро…
— …как изумруд в оправе из снежных вершин.
— Именно. А теперь выпей шиповник.
Человеков послушно протянул руку к стакану и увидел сложенные фигой пальцы.
— Шиповник я пить не буду, — сказал он Тане.
— Как хочешь, — мягко ответила она, забирая стакан.
— На Иссык-Куль я тоже не поеду, — продолжал Человеков, чувствуя, как его заполняет холодок восторга.
Таня ничего не ответила. Удивленно подняла шелковистые брови, внимательно глянула на Человекова, ласковым легким движением пригладила ему волосы.
— Гостиницу я уже заказала. На Иссык-Куле ты сразу же придешь в форму. — Она ободряюще улыбнулась, блеснув своими и в самом деле очень красивыми глазами.
Ну и какой же вывод? Ведь все, похоже, осталось как было, и Человеков по-прежнему задыхается под грузом своего небывалого счастья? Нет, не совсем. Когда становится невмоготу, он вспоминает своего соседа по палате, слышит, как наяву, его голос и видит, как тот задумчиво крутит яблоко. «Так, значит, развестись и в дворники?» — спрашивает у него Человеков. Сосед кивает, и губы Человекова сами собой растягиваются в улыбку.
Кроме того, есть и объективные сдвиги. Странноватая улыбка, появляющаяся теперь иногда на губах Человекова, не прошла незамеченной ни на работе, ни дома. «Что-то все-таки есть в нем подозрительное, не наше», — иной раз думает начальство и как-то так невзначай берет да и вычеркивает его из какого-нибудь заветного списка. «Чему это ты ухмыляешься?» — видя блаженство, разлившееся у него на лице, с несвойственной ей вульгарностью думает жена Таня. Морщинка пересекает вдруг ее лоб, а безмятежная синева глаз сменяется предгрозовой чернотой. «Ты устала, дай лучше я посуду помою», — говорит ей тогда Человеков.
А это, согласитесь, уже кое-что.
Возраст
Чувство, что жизнь уже началась и что-то — непоправимо и окончательно — в прошлом, появилось, когда исполнилось тридцать семь. Чувство было противным: как будто отгрызли кусок Принадлежавшего мне по праву, моего кровного.
Страх перед цифрой сильнее всего ощущался, когда должно было стукнуть, а потом и впрямь стукнуло, тридцать три. Тогда я просыпалась ночами, каждый раз заново ужасаясь: «Как? В самом деле мне тридцать три года? Мне? Тридцать три?» Тело не верило в это. Разуму было этого не охватить.
По временам, днем, возникал очень спокойный, закономерный вопрос: почему именно тридцать три привели к этой панике? В чем дело? В возрасте Иисуса Христа? Потом стало понятно: тридцать три — это прыжок одним махом лет через пять, через целый период. До этого рубежа — тебе около тридцати, то есть тридцать два — двадцать восемь, максимум двадцать восемь — тридцать два (тоже еще не страшно).
Тридцать четыре — когда удается избавиться от гримасы неудовольствия — все же минутная передышка: еще, слава богу, не тридцать пять. И чем вернее ты знаешь, что тридцать пять эти — здесь, за ближайшим углом, тем веселее от мысли, что их еще все-таки нет.
О том, какой тяжестью лягут на плечи две тройки, заранее было не догадаться. Не давил закон круглых чисел, не помогали случайные — к случаю — замечания, которые слышишь в канун тридцати, и если не слышишь от окружающих — внешним ухом, — то получаешь сама по себе, от ехидного, все прежде всех узнающего, внутри тебя потаенно сидящего «я».
Этого «я», под нос сующего то, что не хочешь, не можешь, не должна видеть, я всегда очень боялась, чувствовала его монаршую власть. Но когда в случае с «мукой тридцати трех» ехидное «я» оказалось настолько непрозорливым, стало понятно, что оно знает лишь несколько общих законов и кое-какие поправки к ним. А меня знает ничуть не лучше, чем я сама.
Есть и такая вещь, как ожидаемый и пропущенный возраст. Тридцать шесть лет. Скажешь — и будто повеет левкоями. Персики, легкая полуулыбка, косые лучи августовского солнца, а впереди — бабье лето. В том, чтобы в тридцать шесть лет быть тридцатишестилетней, на миг иллюзорно достигшей вдруг равновесия — чаши весов не колеблются, прикосновение времени шелковисто, — запрограммированы природой тайна и тишина, схожие с тайной и тишиной равноденствия.
Ну а я в тридцать шесть была встрепанной и пыталась бороться на трех фронтах сразу, чтобы все переделать и что-нибудь путно начать. Пыталась цепляться за юность и защищалась от возраста (сначала совсем неосознанно, потом все-таки сообразив, что к чему) одеждой, жестикуляцией, мимикой, свойственными молодежной моде в ту пору, когда я оканчивала университет.
Эти двадцатилетние. Ни одна цифра, ни одна круглая дата уже не сумеют так напугать, как в отрочестве и в ранней юности — двадцать. На тех, кому двадцать, я, даже приблизившись к этому возрасту чуть не вплотную, смотрела с ужасом и с любопытством. Смеются, едят, пьют, в кино ходят. А самим — двадцать. Глаз было не отвести, рассматривала, как экспонаты в музее.
Перешагнув страшную линию, ужаса не ощущаешь. Только неловкость и легкое раздражение, оттого что иногда надо вслух невероятное (неприятное) подтверждать. «Сколько вам? Двадцать? Всего двадцать лет! Если б вы знали, как я вам завидую!» Ты улыбаешься и благосклонно киваешь в ответ. И даже чувствуешь удовольствие. На полминуты.
Потом однажды подруга приносит книгу какого-то скандинава: «Будучи очень молодой девушкой, она совсем не знала людей. Ей было двадцать два года». Нет, ты посмотри, если верить ему, у нас еще все впереди! И мы с ней смеемся. Смех умудренных двадцатилетних над близорукостью стариков. Их близорукость не слишком, но утешает. Не чувствуя себя молодой, можно хотя бы укрыться, как под навесом, под очевидным для всех знаком молодости и научиться в конце концов врать не краснея: мне еще только двадцать.
Но происходит какое-то странное зависание. Двадцать — само по себе, ты — как бы вне возраста.
«А интересно, удастся ли дотянуть двадцать до тридцати?» — просил кто-то. Тогда это прозвучало как милая шутка. Со временем она тоже не сделалась горькой. В каком-то смысле «мы», почти все, двадцать до тридцати дотянули. Беда в том, что продолжаем тянуть и сейчас. Нередко вызываем насмешку, но иногда — умиление. Как-никак приближающийся к пятидесяти юноша все-таки приятнее, чем старик в девятнадцать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: