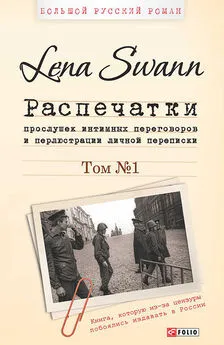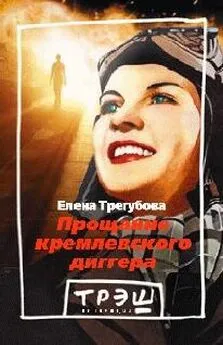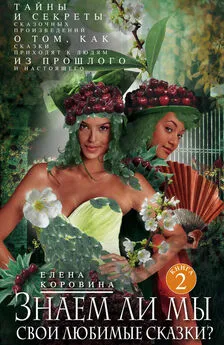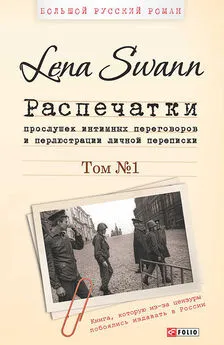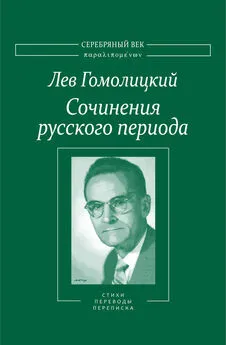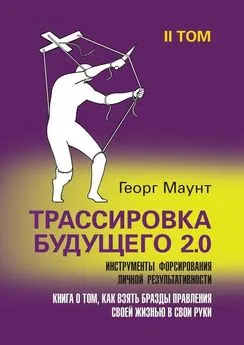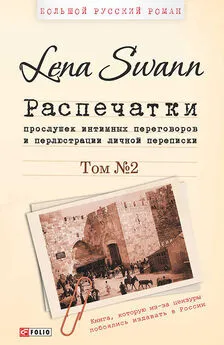Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
- Название:Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Фолио
- Год:2015
- Город:Харьков
- ISBN:978-966-03-7173-6, 978-966-03-7171-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Трегубова - Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 краткое содержание
Роман-Фуга. Роман-бегство. Рим, Венеция, Лазурный Берег Франции, Москва, Тель-Авив — это лишь в спешке перебираемые ноты лада. Ее знаменитый любовник ревнив до такой степени, что установил прослушку в ее квартиру. Но узнает ли он правду, своровав внешнюю «реальность»? Есть нечто, что поможет ей спастись бегством быстрее, чем частный джет-сет. В ее украденной рукописи — вся история бархатной революции 1988—1991-го. Аресты, обыски, подпольное движение сопротивления, протестные уличные акции, жестоко разгоняемые милицией, любовь, отчаянный поиск Бога. Личная история — как история эпохи, звучащая эхом к сегодняшней революции достоинства в Украине и борьбе за свободу в России.
Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Нет, мам, не помню! — дурачилась, улыбаясь, Елена.
— Ну как же ты не помнишь? — на полном серьезе расстраивалась Анастасия Савельевна. — Вовку-то моего! Выпивоху?! Тебе же уже лет восемь было, когда он умер… Добрый он был такой… Неужели не помнишь?!
— Мам, ну конечно я прекрасно помню дядю Володю, что за ерундовые вопросы! Помнишь, он однажды у кого-то маленький автобус выпросил, и к нам в Ужарово приезжал — и меня за руль посадил… Мне года четыре было… До сих пор помню как я счастлива была!
— А знаешь, из-за чего он запил в молодости? — внезапно после паузы выдала Анастасия Савельевна. — Он же в Североморске служил в армии… Его туда забрали — он рослый, красивый, был в молодости — его во флот забрали служить, на пять лет — после войны же дело было… А обнаружилось вдруг, что его очень сильно укачивает на море — и его медкомиссия списала в береговую охрану в Североморске. И вот однажды Вовка увидел, как охранники специально натравили на матроса, который не выдержал пыточных условий службы и сбежал в тундру, собак, немецких овчарок, озверевших — и собаки этого матроса, по их команде, насмерть разорвали. А Вовка видел издали — стоял, рыдал, и сделать ничего не мог. И всю жизнь после этого от раны этой оправиться не мог. Пришел из армии сам не свой. Пил страшно. Забыть всё пытался… Но так и не смог… — Анастасия Савельевна быстро отвернулась и как-то вопросительно-жалобно, сгорбившейся спиной, сказала: — Жизнь такая страшная, Ленка… Эти ведь… они же ведь… они же всех уничтожить в любой момент могут! Они же хуже зверей!
— Мам, хочешь, пойдем сегодня со мной на литургию? Поговоришь с батюшкой Антонием… — осторожно спрашивала Елена.
— Еще чего не хватало! — вскакивала со стула Анастасия Савельевна. — Чего это я там, со старухами-богомолками, забыла? У меня дел полно! Что это я — юродствовать как ты буду?! — и выносилась из комнаты, нарочито гремела посудой на кухне.
Хотя в воскресенье, как бы рано Елене ни приходилось вставать, внутри немедленно восходило собственное, личное солнце — и мгновенно заполняла сердце радость вечно живущего в ней теперь Божьего присутствия — однако, как только выходила на улицу и окуналась в стужу, или в темную ветреную мокрую промозглость, обступало вдруг на несколько минут (ровно на столько, сколько хватало дойти до метро) странное ощущение нереальности: «Куда я прусь в такую рань? Зачем?!» — и дикостью казалась мысль, что в церкви в этот нереальный час есть какие-то люди; и вообще весь мир — холодный, мокрый, сугробный, неприветливый — казался на секундочку чушью, глупой шуткой, выдумкой, нереальным сном, режущим, колющим, неприятным, неуютным — и жутко соблазнительно было вернуться и закрыться с головой одеялом. Навсегда. Зато, когда поднималась из подземного перехода на Пушкинской, у «Армении» — ног уже не чуяла от счастья, неслась, по Горького, до уродской арки — вдруг знаменовавшей пролом в другое, старинное, измерение, и — вот уже — справа — на веселом домике (некогда стоявшем в первом ряду на главной улице города, пока не оккупировали город сталинские торжественно-крысиные монументальные некрополи душ убитых жильцов) — попирающая генералиссимусовскую крысятину, чудом уцелевшая, по неграмотности ленинских погромщиков, эмблема: «In Deo spes mea» — которую еще весной на митинге как-то раз показал ей Крутаков. А вот уже, справа, и серьезные кариатиды, через дом от церкви, на головах держащие дореволюционный подъезд. А вот и незыблемое, неотменное, практически на ощупь уже на пути в храм ожидаемое — и само собой разумеющееся — как сама собой разумеется при отражении в зеркале крошечная родинка на собственном лице — чудеснейшее овальное окошко на третьем этаже нежно-розового особнячка, прямо над кариатидами — выглядящее, как чуть вытянутый вверх земной шар с двумя меридианами. Елена специально шла не по мостовой, а по узкому тротуару справа — на секунду оттягивая тот миг, когда хурмовая краска церковки, исчезнув было, выскакивала вновь на излете изгиба улочки: и вот — уже сердце разрывалось от нежности — хибарка Господа моего.
В узком, черном еще, перешейке между центральным алтарем и дальними приделами крошечная старенькая матушка Елена в фиолетовой косынке, подтягиваясь на мысках, вычищала сморщенным пальчиком круглый, чересчур высокий для нее медно отблескивавший столик для свечей — молитвенно, словно и забыв о прикладной цели чистки — водя пальцем между зажженными кем-то уже свечами — словно пчелка, собирающая мед; и розоватый отблеск свечей застревал в ее морщинах, так что лицо уж светилось само по себе, как на картинах Караваджо.
У Взыскания погибших уже целиком полыхали взлетные огни — и поражали белизной лилии, неизвестно с каких небес нападавшие в вазу у подножья иконы среди зимы.
Удивительные звуки и отблески Божьего улья.
Полутона переходили в сверкание верхнего света, шепоты — в многоголосую сдержанную радостность набившегося вокруг народа.
Когда священник возглашал в алтаре «Благословенно Царство», и диакон, воздевая сверкающий парчовый орарь как ангелово крыло, сочным баритоном воспевал на амвоне ектенью — до мурашек явственно чувствовалось, что высшее предназначение человека — это петь Богу.
Важно было, когда впервые открывались царские врата, оказаться прямо напротив — в узком центральном коридорчике — оттуда лазурный заалтарный образ казался совсем живым.
Сразу после этого Елена как-то неизменно оказывалась оттесненной на собственное, именное уже практически, местечко — второе с краю от коридорчика — на левой банкетке, напротив алтаря, и всегда заново ощупывала витую решеточку снизу, по грани банкетки, за которой жарко пряталась батарейка центрального отопления.
Слева, в толпе, как всегда невдалеке, но как всегда на дистанции, появлялась Татьяна — точнее, появлялась сначала ее милая лучистая губошлепская улыбка, ее мягко уложенные распушённые длинные волосы, разлетавшиеся из-под теплого платка — сама же Татьяна, за улыбкой, тут же поворачивалась к алтарю, сосредоточившись на молитве.
Справа, в правом крыле перед алтарем косолапо топтался, сложив ручки замочком, угрюмо-радостный Влахернский — свято соблюдая несуществующую уже — но записавшуюся где-то в церковной памяти традицию: мужчинам молиться справа, женщинам — слева. «Сегрегация почти как в синагоге», — с улыбкой подумала Елена, когда Татьяна им впервые об этом рассказала.
Татьяна, молясь, кажется, сама того не замечая — чуть покачивалась — как будто чуть взлетая, чуть подвзбрасывая себя на мысках сапожек; а когда иерей возглашал: «Мир всем!» — Татьяна чуть заметно складывала ладошки — словно зримо зачерпывая горсточкой благословение. И всегда, чуть поклонившись, неслышно, одними губами, отвечала: «И духови твоему».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: