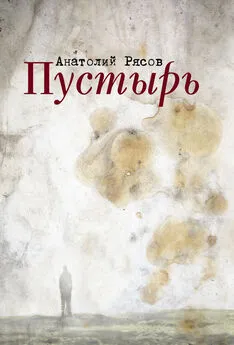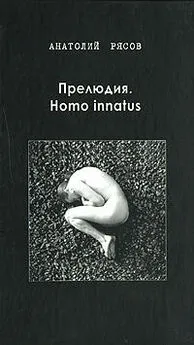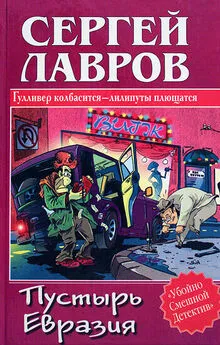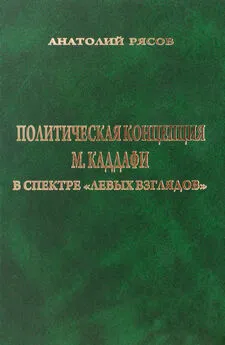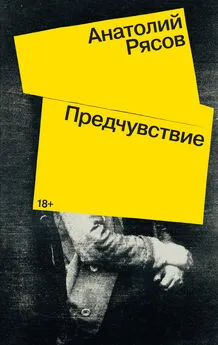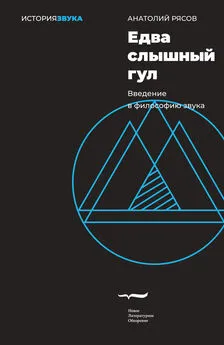Анатолий Рясов - Пустырь
- Название:Пустырь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Санкт-Петербург
- Год:2014
- Город:Алетейя
- ISBN:978-5-91419-586-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Рясов - Пустырь краткое содержание
«Пустырь» – третий роман Анатолия Рясова, написанный в традициях русской метафизической прозы. В центре сюжета – жизнь заброшенной деревни, повседневность которой оказывается нарушена появлением блаженного бродяги. Его близость к безумию и стоящая за ним тайна обусловливают взаимоотношения между другими символическими фигурами романа, среди которых – священник, кузнец, юродивый и учительница. В романе Анатолия Рясова такие философские категории, как «пустота», «трансгрессия», «гул языка» предстают в русском контексте. В 2012 году роман «Пустырь» вошел в лонг-лист литературной премии «Большая книга». Петербургский художник Наталья Красильникова нарисовала иллюстрации к тексту, в 2013 году эти работы выставлялись в нескольких галереях России.
Пустырь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ночью ему удалось уснуть, и он ясно запомнил свой сон. Ему приснилась его собственная, пустая комната. Всё вроде бы было на местах, но его не покидало какое-то странное ощущение, какая-то необъяснимая тревога, охватившая его при виде неживой кельи. Несколько часов он видел один и тот же застывший кадр: враждебную каморку с обшмыганными, отстающими от стен ошметками обоев. Он в деталях изучил каждую зазубринку, каждый изгиб и каждое пятно, по многу раз всматриваясь в грязные узоры (так разглядывают незамысловатые пересечения линий на внутренней стороне дверцы нужника). Таких недвижимых, зловеще тихих снов у него никогда прежде не было. И впервые он понял, что страшится собственной комнаты, которая, казалось, отторгала все чужеродные для нее самой предметы, неспособна была принять в себе чье-либо присутствие. Пробуждение он воспринял как освобождение от отвратительной пытки. Но, оглядевшись по сторонам, он подумал, что во сне он увидел то, что опостылело ему наяву. Ведь он больше не выносил этой болезненной чистоплотности, этого планомерного и симметричного уюта, который с такой тщательностью обустраивал, ненавидел эти населяющие тишину вещи, каждая из которых была уложена так, чтобы в нужный момент быстро оказаться под рукой. Эти предметы словно продолжали его собственное тело, являлись его уродливыми придатками. Этот нелепый порядок, эта видимость пристанища казались ему жутким крушением всего прежнего мира. Краха, к которому он, незаметно для себя, приблизился. Призрак императора испарялся над полем проигранной битвы. Установившаяся жизнь казалась ему раньше незыблемой, нерушимой, другого пути как будто и не могло существовать, да он даже не задумывался об этом. И теперь ему захотелось выплеснуть всю накипевшую, годами сдерживавшуюся где-то внутри злобу и раскидать всё – назло, поперек прежней старательности, так диссонировавшей с теперешним внутренним хаосом. Но священник, конечно, не сдвинулся с места. Зачем он замазывал щели надтреснутого мира? Чтобы скрыть их от других и от себя? Или просто боялся, что из них поползут мокрицы? А откуда в стенах мирового пространства берутся трещины? Он принялся креститься, но это не помогало. И какая-то зелень стояла в глазах.
Лукьян просидел у печи целый день, забыв о делах и даже не заметив наступления темноты. Его жизнь стала казаться ему увертюрой к несуществующей симфонии, все темы которой были сыграны дрянными музыкантами в чересчур быстром темпе. Он чувствовал, как в скопившейся у ног горстке мусора замечает обломки всего того, чем начинал быть, но так и не стал. Его личность оказалась жалким предателем собственной несостоявшейся сущности. Сложно было представить что-то более ничтожное, чем мнимые достижения его поддельной жизни. Беспорядочные размышления были прерваны только появлением на кухне Елисея. «Поесть-то забыли…» – подумал вдруг священник. Но Елисей вышел из комнаты вовсе не потому, что проголодался. Божий человек стоял в дырявом зипунишке, вытащенном, судя по всему, из холщового мешка, с которым он ни на миг не расставался – тем самым, в который у Лукьяна так ни разу и не хватило духу заглянуть. Смешно. Только вот смеяться не хотелось. Теперь этот мешок был пуст, а прежде стягивавшая его веревочка ненакинутой петлей висела в руке Елисея. Священник даже вздрогнул, настолько бродяга показался ему похожим на палача. Но следующий поступок Елисея был еще более неожиданным и странным, чем священник мог предположить. Бродяга снял сапоги, сунул их в пустой мешок и, затянув веревку, открыл дверцу печи и без всякой жалости бросил свою суму в пламя. Босоногий, он повернулся к двери, давая понять, что собирается выйти на улицу. Причем Лукьяну почему-то сразу стало ясно, что направляется он не к своему обычному месту на скамейке. Священник прекрасно знал его манеру выглядывать за калитку, или выходить и присаживаться на лавку, или даже не присаживаться, а медленно идти куда-то, но уходить с явным намерением вернуться обратно в дом. И было совершенно ясно, что в этот раз он не собирался возвращаться, планируя навсегда покинуть пределы Волглого. И вдруг Лукьяну стало ужасно жалко себя, как будто уходил его сын – ребенок, которого он ненавидел, но всё равно не хотел отпускать. Сын, которого у него не было. Сын, в небытие которого несчастный отец упрямо отказывался верить. С его уходом как будто утрачивалась последняя иллюзия спасения. Хотя Лукьян уже не помнил, от чего надо было спасаться.
Всё рушилось и выпадало из рук. Он ощутил какую-то детскую брошенность, одиночество и обделенность.
– Ты чего это, братишка, куролесишь? – собравшись с силами и стараясь придать голосу ласковые интонации, прохрипел Лукьян, преградив бродяге дорогу. Но Елисей с силой оттолкнул священника, так что тот едва удержался на ногах, успев осознать, что этот толчок был первым прямым контактом между ними – впервые бродяга признал его существование. На миг Лукьян даже почувствовал какую-то нервную, неуместную радость. Но первый раз одновременно оказался последним: уже через мгновение Елисей приподнял крючок и вышел на террасу. – Что кушать-то будешь, полоумный? Снегом, небось, не наешься! – успел прошептать ему вслед ошеломленный Лукьян. Но бродяга уже шагал по рассыпчатому искристому покрывалу, и скоро его сгорбленная фигура скрылась в белых сумерках метели. – Замерзнет, – пробормотал священник. – Как пить дать, замерзнет. Почему пить дать? С чего так говорят? Чушь какая… Откуда опять эта игошевщина кривой рогатиной вылезла?.. Бегает ведь где-то тут бесенок, видать.
Сквозняк с грохотом захлопнул дверь, и в следующее мгновение, вероятно, от этого удара, выпав из оправы, со стены слетело и разбилось зеркало. Лукьян взглянул на странный орнамент, сложившийся из беспорядочной россыпи осколков, и, наклонившись над этой мозаикой, он увидел вполне различимое, хотя и дробящееся отражение. Зеркало разбилось, и его лицо распалось на множество физиономий, каждая из которых корчила свою гримасу. Из одного лица вдруг выпрыгнула целая толпа близнецов, которая глядела множеством не то насмешливых, не то озлобленных глаз. В этом треснувшем отражении он с трудом узнавал себя. Изображение, хоть и измельчалось на множество фрагментов, всё-таки оставалось вполне различимым, но, напоминая лицо священника Лукьяна Федотыча (тщедушной бородой, прищуром глаз, сверкающими коронками), одновременно оно было абсолютно чужим. Несметная толпа глядела на него с каким-то неприязненным укором, как смотрят свалившиеся снегом на голову дальние родственники, про приезд которых ты в суете забыл и потому должным образом не встретил. И тогда он решил дать отпор и пристально посмотрел на них. Смотрел долго, казалось, его взгляд безвозвратно погрузился в серебрившиеся глубины, слился с ними, но потом Лукьян внезапно повернулся в профиль и украдкой покосился на стекло, словно надеялся этими нелепыми движениями привести незнакомцев в замешательство. Но, похоже, что их нисколько не смутили его клоунские выходки, они всё так же (или даже с увеличившейся неприязнью) смотрели на него и продолжали свой молчаливый и беспощадный допрос. Казалось, они перемигивались друг с другом и с пониманием кивали в его сторону, обмениваясь им одним понятными знаками. А лица – даже не злые, какие-то хмурые, угрюмые. И священник понимал, что они глядят на него даже в те секунды, когда он отводит от зеркала свои глаза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: