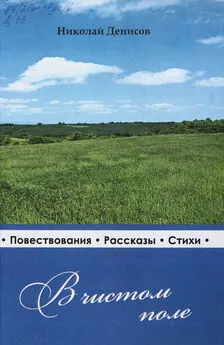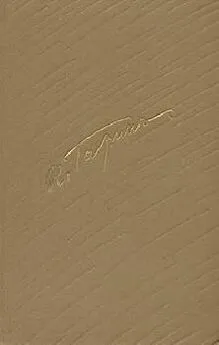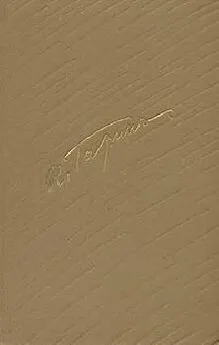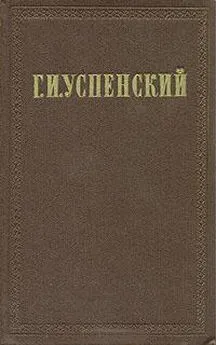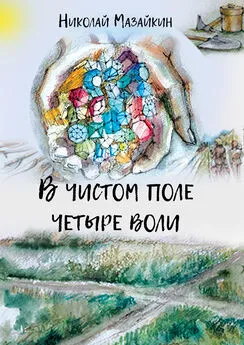Н. Денисов - В чистом поле: очерки, рассказы, стихи
- Название:В чистом поле: очерки, рассказы, стихи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд-во ОГУП «Шадрииский Дом Печати»
- Год:2012
- Город:Шадринск
- ISBN:978-5-7142-1390-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Денисов - В чистом поле: очерки, рассказы, стихи краткое содержание
«В чистом поле» – новая книга поэта и прозаика Николая Денисова – лауреата Международной литературной премии «Имперская культура». Это строки о друзьях-товарищах по литературному цеху, их жизненном и творческом пути. Автор прослеживает наиболее ёмкие «вехи» в истории организации тюменских писателей – на фоне событий советской и постсоветской эпохи – через личное восприятие разнообразных моментов бытия.
Книга издается к 50-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России.
В чистом поле: очерки, рассказы, стихи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вчера ехал с нами поэт Юван Шесталов. Гостил у родителей в Ванзетуре. Зашел ко мне в каюту, похлопал по плечу – «Ты это правильно делаешь, набирайся впечатлений, поэту необходимо!» Изображал из себя шамана. Еще в роли! Он был на празднике «Медвежьей головы». Шаманил. И у меня в каюте рычал, прыгал, тряс головой. Забавно!
Я потянул поэта в наш носовой салон, он типа «ленинской комнаты», какие бывают в воинских частях иль при небольших фабриках, скликал свободный от вахты народ, давай, говорю Ювану, почитай стихи! Юван, как всегда, готов к подобным поэтическим действам! Читал новую поэму. На родине, говорит, сочинил…
Замечательно! Но поэты здесь явление редкое. Не Москва…
В каждом береговом селении на Северной Сосьве нас встречали собаки. Когда теплоход мягко причаливал к берегу, шурша килем о песок, они радостно и наперегонки бежали к судну.
«Лайки, – со знанием дела говорил Олег, открывая иллюминатор, – чистопородные».
Выходила из камбуза кокша и бросала собакам остатки пищи.
«Полкан, Полкан! – кричали матросы.
«Тузик, Тузик!» – звали рулевые.
«Дозор, Дозор!» – басил механик.
Собаки вострили уши и нюхали воздух.
Мы привыкли к ним и запомнили их клички. И когда капитану пришел приказ на какое-то время увести судно на Обь, все мы загрустили.
Северное лето стремительно шло к концу. Ночью в надстройку, где находились каюты второго класса, ударял холодный ветер. Бугрилась вода в Оби. Ушли под воду обмелевшие за лето песчаные косы. И наш небольшой теплоход качало на обских волнах не по-божески…
Однажды утром мы проснулись от тишины. Молчали дизеля.
«Сосьва!» – обрадовался Олег, выбегая на палубу.
«Полкан, Полкан!» – звали матросы.
«Тузик, Гузик!» – кричал из рубки рулевой.
«Дозор, Дозор…»
Па песок кинули остатки вчерашнего ужина. Дозор сидел у ног старика манси.
«Хорошая собака, – сказал механик. – Продай, старик».
«Лайка!» – заискрились глаза манси…
Застучал мотор бударки, потревожив светлую гладь реки. Чиста в Сосьве вода, каждый камешек виден на дне. Много в Сосьве рыбы: и сырка, и нельмы, и муксуна, знаменитой сосьвинской селедки, которую ловят здесь на спецзаказ и спецпосолом отправляют прямо в Москву, в Кремль.
Любят манси Сосьву.
…Часто плавал Дозор на рыбалку в бударке своего прежнего хозяина. Надвинулась однажды буря, подвернул рыбак к берегу, чтоб костер развести и погреться, бутылку вина выпил и, не переждав бурю, заторопился домой.
Холодна в Сосьве вода, неласкова волна. Вывалился пьяный хозяин за борт и утонул…
«Тяжелый случай», – вздохнул Олег, перебивая рассказ манси.
«Это мой брат был, – тихо сказал старик. И продолжил – вчера с рыбалки едем. Волна в борт бьет. Мотор совсем ослаб. В груди холодно. Бутылка достал, наливаю в кружка. Дозор рычит. Шерсть дыбом поднялась на загривке…»
«Интересно, – сказал Олег, чиркая спичкой, прикуривая. – И не выпил?»
«Ну зачем тебе такая собака?» – не унимался механик.
«Ух и зла была Сосьва!… Не, не продам!» – гордо отрезал старик.
В каждом поселке первыми нас встречали собаки. Шли дни, совсем отяжелела от холода вода в Сосьве, по вечерам гуртились на плесах утки, готовясь к отлету на юг. Навигация и наша работа гоже шли к концу. И вот однажды, в Березово, в пристанской толпе, мы увидели старого манси. Он держал в руках собачий ошейник с медной застежкой и плакал.
Два дня назад Дозор погиб в тайге в схватке с медведем.
«Хорошая собака была…» – чуть слышно прошептал сухими губами механик.
«Лайка, – грустно сказал Олег, затягиваясь папиросой, – чистопородная…»
А я, ребята, привезу вам сувенир. Геолог один подарил. У него нет традиционной бороды, а есть наган революционного образца. Носит наган на поясе в кобуре. Смахивает в своей кожанке на гэпэушника 20-х годов. «Вот, – сказал, – возьми! Это горный хрусталь из Саранпауля, приносит счастье».
ПАСХА ПОД СИНИМ НЕБОМ
В останкинскую дубовую рощу мы ходили по вечерам «слушать соловья». Идиома эта затвердилась на нашем курсе с легкой руки Вани Тучкова, с которым я прожил рядом в одной комнате все наши прекрасные месяцы сессий литинститутских лет. Как раз строилась Останкинская телебашня, и мы, приехав на экзамены и на зачеты в Москву, первым делом отмечали – насколько за наше отсутствие продвинулось строительство. Основание башни – этакая фантастическая лапища, упершаяся в землю наподобие инопланетного летательного аппарата, было скрыто коробками домов, только железобетонная «труба», опутанная тросами, шлангами, строительными механизмами, упорно тянулась и тянулась в небо.
Ваня дивился, глядя на «трубу» из окна нашей общаги, прицокивал языком, придумывал «трубе» грубоватые сравнения, наконец, измаявшись от ничегонеделания, учебники он обычно аккуратно укладывал под подушку – «во сне сами войдут в голову!» – тормошил меня, углубившегося в книгу: «Кончай, пойдем соловья слушать!» Я сопротивлялся: надо готовиться, завтра экзамен по зарубежке сдавать! Он парировал: «Все сдадим… Кроме Севастополя! Пойдем!»
Как пели соловьи в прохладные черемуховые майские вечера, какие трели-коленца выдавали в теплые ночи июня! Иногда, случалось это чаще по выходным, я уходил в дубовую рощу один, раскинув прихваченное одеяло, устраивался с книжкой под уютным кустом. Ходили мы еще в Ботанический сад, что рядом с ВДНХ, тоже оккупировав какую-нибудь реликтовую полянку из пахучих трав, погружались в свои конспекты. Иной раз, обнаружив сие безобразие, нас прогоняли сторожа сада. И мы опять шли в дубовую рощу, где никакой стражи…
Теперь, по прошествии лег, когда судьба разбросала нас, литинститутцев, по суверенным государствам, вот и Ваня Тучков за кордоном, а говорил – «Севастополя не сдадим!», горько сознавать, что в октябре 93-го по этой дубовой роще хлестали очередями ельцинские «бэтээры», сбитая пулями, сыпалась листва с дубов, между которыми метались в вакханалии демократического побоища люди, истекали кровью, умирая с остекленевшим ужасом в глазах, вопрошая в холод серого неба: за что?
Соловьи, соловьи…
Но это будем потом, через годы, когда в стране победит серость, а она беспощадна и мстительна, кроваво отомстит за свое прошлое пресмыкательство перед властью, за бездарность, за нищету своего духа. И где ей будет понять красоту и беззащитность таланта, патриотизм подвижников, жертвенность – во имя гордого имени Отечества, Родины!
А тогда, во второй половине шестидесятых, мы радовались удачной строке, образу, эпитету, хлесткой пародии, эпиграмме на какого-нибудь «классика», по-хорошему завидуя успеху товарища, ценя самобытность. К нам в комнату заходили очники – Боря Примеров, Витя Смирнов – смоленский-деревенский, белорус Микола Федюкович, ребята с нашего заочного отделения – Саша Голубев, ставший потом редактором воронежского журнала «Подъем», Толя Демьянов из Ижевска, который писал не только отличные стихи, но и заваривал такой чай, после которого «можно было видеть звезды сквозь семь этажей общаги и то, как бегают в подвале крысы». О, разный талантливый народ бывал у нас! Но больше запомнились поэты. Стихи читали без продыху. И Миша Мамонтов, тоже штатный жилец нашей комнаты, прозаик и староста курса, махнув на все это увесистой рукой машиниста-паровозника, уходил пообщаться с рабочим классом на бульвар или к винному отделу гастронома, где привычно, по рублю, «сбрасывались на троих». Еще Миша признавался, дивясь нашей поэтической неукротимости, что после возвращения с сессии в свой узбекский Алмалык – не может не то что слушать стихи, но и смотреть на все, что написано «столбиком»!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: