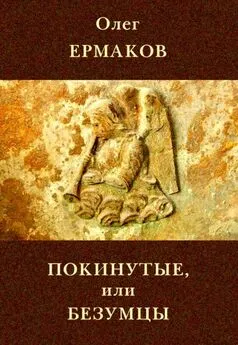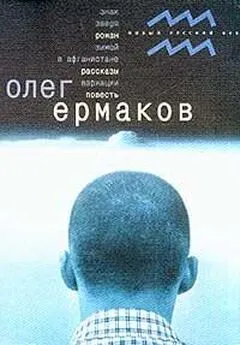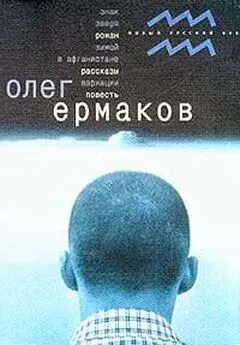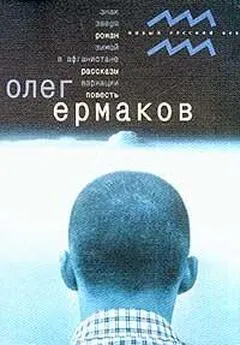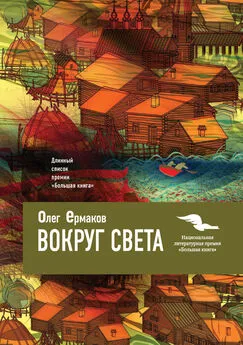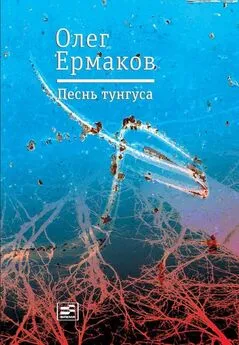Олег Ермаков - Покинутые или Безумцы
- Название:Покинутые или Безумцы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Salamandra P.V.V.
- Год:2015
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Ермаков - Покинутые или Безумцы краткое содержание
Жанр новой книги известного смоленского прозаика определить нелегко. Это и «дневник писателя», и просто дневниковые записи, и медитации лесного бродяги, и заметки неторопливого городского пешехода, и философские наблюдения, и эссе о писателях от Г. Торо и И. Гончарова до П. Боулза и И. Уэлша, и манифест «экологического анархиста». А в целом — книга, в которой дарование Олега Ермакова, писателя и фотографа, раскрывается всеми своими гранями.
Покинутые или Безумцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:

Совершенно простой и в то же время сказочный мир. Кот каким-то образом связан с бурей: буря свищет, он поет; у бури шуба клочьями, как у кошки. Но и мальчик связан с бурей: он устал возиться с игрушками — а буря играет, у нее свои, снежные игрушки. Мальчик ее нисколько не боится, — заснул. Мир неги посреди космоса зимы воспринимается как чудо; в нем есть какая-то первозданность; он вдруг явился: уже цельный, существующий по своим законам: «Кот поет, глаза прищуря»… Кот — существо домашнее, но и гость, агент внешнего мира, мира природы; в нем что-то языческое; вообще кот — в трансе: «Мальчик встал. А кот глазами/ Поводил и все поет»… Эти движения кошачьих глаз выразительны, незабываемы, неостановимы, словно некие механизмы, колесики перпетум мобиле русской поэзии.
Пока болел, перечитал Дилана Томаса. Полезно перечитывать (и, возможно, болеть). Вот строка, например, на которую прежде не обращал почему-то внимания: «Нет Времени в часах, как Бога — в храме». Глубокая метафора. Храм как часы священного. Храм как инструмент измерения священного. И безмерная горечь. Попробуйте сначала объяснить время, найти его…

Перечитывая стихи Дилана Томаса, собранные в одной книге с его прозой, вновь опасался того же разочарования, что постигло мою первую попытку. Речь только о стихах. Тогда мне показалось, что лучше было бы оставить чтение после «Вступления», большого стихотворения, предваряющего сборник, настолько оно мощнее всего остального. И тогда бы возникал удивительный эффект… ну, что-то вроде последнего взгляда Моисея с гор на землю обетованную, вступить в которую ему уже было не суждено. «Вступление» обещало ВСЁ. В нем слышался библейский гул. Конечно, и Уитмен вплетал свой голос, и многие другие. Но чувство автора было подлинным, дилановским, всезатопляющим. Да разве удержишься?.. Ну, пусть Моисей и помер, а мы-то, остальные? Пойдем дальше! Увы, многие вещи сборника казались набором ярких метафор и не более того. Чем-то они напоминали даже заумь нашего волхва Хлебникова. Многозначные, темные метафоры. Но у Хлебникова эти пласты пронизаны корнями смысла, хотя его порой и не так-то просто уловить, изложить. У Хлебникова есть необъяснимая цельность, все его стихи как птицы движутся по внутреннему компасу к какому-то полюсу. Совсем не то у Дилана Томаса. Его птицы часто бессмысленно кружатся, ему не хватает воли — или желания? — направить их, заставить клевать зерно, из которого и высекается обычно свет, озаряющий все стихотворение. Пиит, кажется, неряшлив и нетрезв…

В общем, на этот раз я не был столь категоричен (слеп и глух) и в сборнике нашел еще много восхитительных стихов, семь-девять (а всего в сборнике восемьдесят девять стихотворений). Ради них стоит побродить по этой валлийской долине, подышать морским ветром… Но все-таки «Вступление» — подлинный шедевр, гора Нево (продолжаю библейскую метафору). И вот что любопытно. Это было последнее законченное стихотворение мастера. К чему я клоню? Да к тому, что остановившись на холме Дилана Томаса, можно ощутить дыхание земель обетованных — земель ненаписанных. А это ощущение удивительное, не каждый день подобное испытаешь…
И вообще, земля обетованная всегда лежит за порогом недоступного. Но именно поэты могут подвести туда ближе всего.
На Арефьинском холме сидел на поваленном дереве, смотрел на закатные дали. Потом случайно глянул на соседний высокий подгоревший пень. Это был вавилон муравьиный; муравьи труждались, кто тащил соломинку, кто крылышко, кто кусочек коры. Мое внимание привлек один муравей — Титан. Он волок вверх палочку, которая раз в пять превышала его размеры, — такое бревно. Доставил его на последний этаж. А это примерно метр от земли. Для муравья — Эмпайр-стейт-билдинг сто двухэтажный. Представил, что кто-то нес бревно без отдыха по его лестницам, Шварценеггер. Но муравей-то не по лестнице — а по отвесной стене лез. И всякую секунду мог превратиться в Сизифа.
И куда дальше?
Дальше было отверстие, откуда выбегали муравьи. Туда? Не получится, не развернешься. Бревно оказалось в расщепе чуть ниже отверстия. И муравей держал его челюстями, шевелил усиками. К нему подбегали другие; уходили, не помогая. Муравей оставался в том же напряженном положении минуту, другую… Минут десять. Я уже потерял терпение.
Что за муравей-тугодум. Бросай бревно или что-то делай. А он лишь шевелит задумчиво усиками и не ослабляет хватку. И его сотоварищи бегают без толку, даже по нему пробегают, по его бревну, мельтешат. И это и есть хваленое муравьиное братство? Ну, мне еще топать до бивуака на Городке. Я встал. Окинул еще раз взглядом зеленые умолкнувшие перед ночью окрестности. И все-таки решил глянуть на мураша. Все то же… Тут я догадался заглянуть за расщеп — и был вознагражден разгадкой: бревно уже было укреплено опилками. Точно: из отверстия появлялся очередной работяга с крошечной порцией опилок и «цементировал» ею бревно. А Титан выжидал терпеливо, пошевеливал усиками одобрительно… И, наверное, насмешливо.
«Книга песен» Абу-ль-Фараджа аль Исфахани со всей ясностью показывает: Аравийский полуостров и земли, захваченные арабами в 7–8 вв. — вот литературоцентричная Атлантида. И с этой книгой, где собраны рассказы о поэтах ранних и средних веков, она всплывает, сверкая утренними песками, листьями пальм, ночными огнями у шатров, звенит мечами, поет. Поэзия ранних арабов равна поэзии эллинов. И проза хороша. Вот образец: «Башшар был огромного роста, крепкого сложения, с крупным лицом, длинным и изрытым оспой. Глаза у него были выпучены и заросли диким красным мясом. Его слепота была самой отвратительной, а вид — самым ужасным. Когда Башшар хотел прочесть стихи, он хлопал в ладоши, откашливался, сплевывал направо и налево, а потом начинал читать — и происходило чудо». Лучшего определения поэзии я не встречал.

Бусидо вырос из потребности дисциплинировать войско, свод правил о беспрекословном подчинении был разработан где-то в 13 веке, буддизм и дзэн уже были в силе, но из него взяли только то, что удобно для воина: не лгать, не пить вина, иметь чистые помыслы. Самураи буквально преломили об колено благородные истины Будды, главное семя коих, как известно, принцип ахимсы: не причиняй ущерба живому.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: