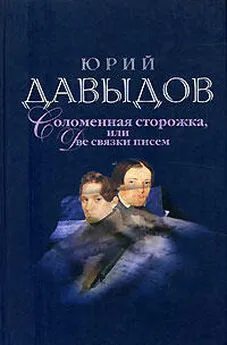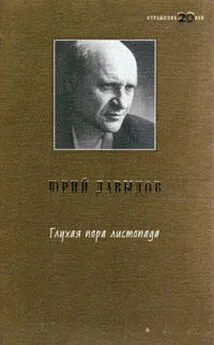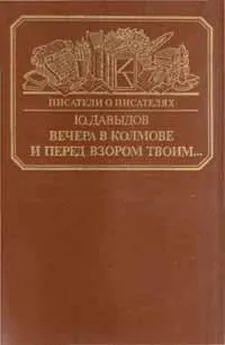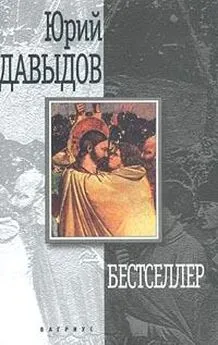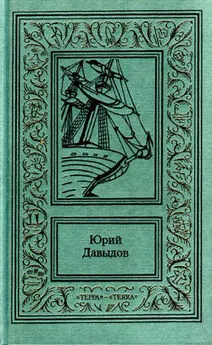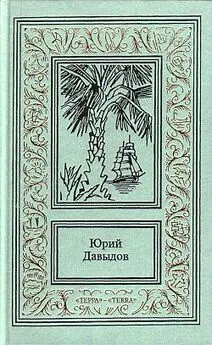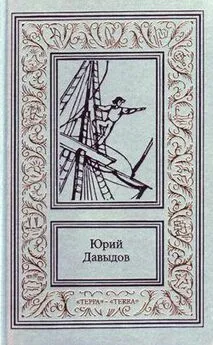Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Название:Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем) краткое содержание
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Соломенная Сторожка (Две связки писем) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После убийства Ивана Иванова Шурочка со своим грудным младенцем долго находилась в тюрьме Третьего отделения. Суд ее оправдал, она последовала за мужем в Сибирь. На диво сложенного возка у нее не было, денег почти не было. Проезжая Иркутск, Шурочка побывала у генерал-губернатора Синельникова: для житья в Нерчинском горном округе требовалось разрешение. Синельников предложил Шурочке место акушерки в столице Восточной Сибири. Шурочка в Иркутске не осталась.
На Каре она терпеливо ждала освобождения своего мужа. Мне кажется, она любила его сильнее, чем он. Его чувство к жене, сдается, питалось благодарностью, и только… Не дождавшись освобождения Петра Гавриловича, Шурочка вернулась в Москву, на Мещанскую, где так часто бывал Нечаев.
В Москве возобновила связи с подпольем, хотя все ее силы и все ее время поглощали заботы о заработке и воспитании сына. Из последних силенок хваталась за все, что ни подвернется. И домашнее тоже лежало на ней: воды натаскай, дрова принеси, стряпай, штопай, шей. Писатель Златовратский рассказывал мне, что с нею познакомился граф Лев Николаевич Толстой. Покивал одобрительно, елозя бородою по блузе: «Какая вы счастливая, у вас есть настоящая работа!» Жаль, что она не тачала сапоги, он нашел бы ее архисчастливой… Некоторое время спустя Златовратский обратился к графу с просьбой помочь Шурочке подыскать любой, самый мизерный заработок, написал, что она с сыном находится в безвыходном материальном положении и удрученном душевном состоянии. Толстой не ответил.
Но самое страшное и непоправимое обрушилось на Шурочку не в Москве, а раньше, в карийские годы.
Петр Гаврилович Успенский столь многое значил в моей жизни, и это многое было столь противоречиво, что рука дрожит и перо спотыкается.
Он писал стихи, этот человек, убежденный в необходимости жестокости. Он был добр, но словно бы стеснялся своей доброты. Он был насмешлив и вместе способен пылко идеализировать. Он не обладал силой характера, но казался твердокаменным. Он был красив, но не породистой, дворянской красотою, а какой-то старинной, былой, вольной – не то витязь, не то набатчик в час беды.
Не уверен, сблизился бы я с Петром Гавриловичем, приди он на Кару не из первых политических и не приди за ним Шурочка. Впрочем, теперь гадать пустое, а надо сказать без обиняков, что именно Успенскому я обязан тем, что уклонился от махорочно-купоросного «средствия» и вновь склонился к литературным занятиям. Я от них отпал, стыдясь своей неумелости. Петр же Гаврилович ободрил меня стихами:
Пускай пред миром длинный
Пройдет картин ужасный ряд —
Вся кровь, пролитая безвинно,
Бесправье, гнет, весь здешний ад.
Оставьте ж стыд тут неуместный,
Скорей за труд!.. Давно пора!
Давно вас ждет на подвиг честный
Многострадальная Кара!
К слову сказать, четверть века спустя я послал в Петербург, в «Исторический вестник», два своих рассказа. Редактор ответил, что написаны они правдиво и живо, но, к сожалению, производят слишком тяжелое, удручающее впечатление, а журнал должен щадить чувства читателей. То была опаска благонамеренного господина перед сюжетами, которые раздражают и обижают высокое начальство: мы, дескать, произвол уже осудили, зачем же сыпать соль на раны?! Высокие начальствующие лица не дают в обиду предшественников. Это не только желание видеть и прошлое, и настоящее в розовом свете, но и чувство наследников, которые в ходе неумолимого времени тоже станут чьими-то предшественниками.
Ну да бог с ним, с «Историческим вестником», с редактором. Поэтический призыв Петра Гавриловича, повторенный разговорной прозой, возымел свое действие. Я сознал обязанность писать о «многострадальной Каре». Все мною тогда написанное Петр Гаврилович, страхуя рукописи от всяческих напастей, скопировал тщательно, мелко, убористо.
Был, однако, и один некарийский сюжет; волновал он меня, мучил, озадачивал. Я имею в виду печально-знаменитое убийство студента Петровской земледельческой академии Ивана Иванова, совершенное Нечаевым с товарищами, Успенским в том числе. Обстоятельства этого зловещего происшествия были известны из «Правительственного вестника», печатавшего стенограммы судебного процесса. Процесс был огромный, количеством обвиняемых вряд ли уступал декабристскому. Судьи вели себя в высшей степени корректно, подавая пример не только юридической добросовестности, но и гражданской смелости. Многие были оправданы и тут же, на суде, освобождены из-под стражи. Прямые нечаевцы, то есть убийцы Ивана Иванова, получили каторжные приговоры. Дело, казалось бы, решенное и бесспорное. Но меня волновал, мучил, озадачивал Петр Гаврилович Успенский.
Вникнув в его речь на судебном заседании, я склонился к тому, что Успенский, сидя в крепости и в Доме предварительного заключения, внушил себе, что это убийство диктовалось железной необходимостью. Внушил, повинуясь чувству самосохранения, иначе бы он не выжил.
Я долго не решался тронуть эту болевую точку, да, верно, никогда бы и не решился, если б из одного вечернего разговора с Шурочкой не то чтобы определенно и ясно понял, а вынес ощущение, что и Успенский, и она, милая, беззаветная Шурочка, не испытывали и не испытывают ни малейшей нужды в каких-либо самооправдательных внушениях. Они единомыслили до конца: да, была железная необходимость; да, не желали остаться в стороне, и, слава богу, Сергей Геннадиевич Нечаев дал Петру Гавриловичу Успенскому возможность доказать свою преданность Революции.
Все мое существо не соглашалось, бунтовало. И все же я медлил поговорить с Успенским нараспашку, пока не выдалась та зимняя лазаретная ночь, когда мы были один на один.
Простуда Петра Гавриловича не нуждалась в лазаретном лечении, но я пользовался каждым случаем, чтобы дать моим «политикам» отдохнуть от острожного многолюдства и шума. (Одиночество, если оно не принудительное, необходимо каждому, как необходимо и нарушение одиночества, если оно соответствует вашему желанию.)
Не припомню, с чего начался этот откровенный ночной разговор, но совершенно отчетливо помню, как поразил и сокрушил меня холодный фанатизм Петра Гавриловича, фанатизм, прозрачный огонь которого я доселе не замечал в этом деликатном человеке.
Некогда, в Москве, он хранил «Катехизис революционера». При обыске «Катехизис» изъяли, а во время судебного процесса распубликовали на страницах «Правительственного вестника». Но материальный, тетрадный, изъятый «Катехизис» навсегда остался в душе и уме бывшего хранителя.
Петр Гаврилович сидел на койке, устремив глаза на свечу, в глазах его не было муки, никакого надрыва не было, напротив, мне даже показалось, что он воодушевлялся и молодел, как воодушевляются и молодеют люди, увлеченные воспоминаниями о тех днях, когда они жили, а не прозябали.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: