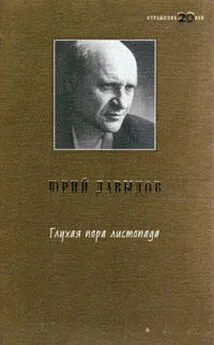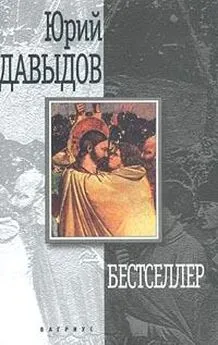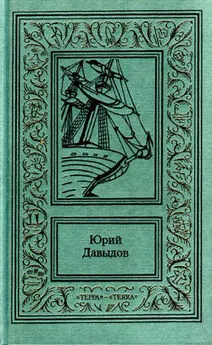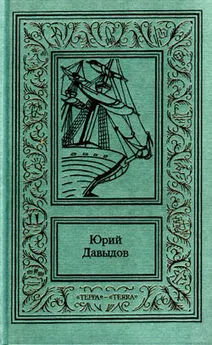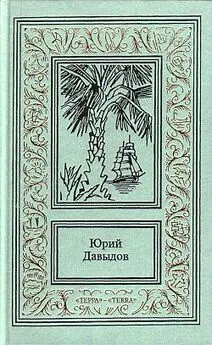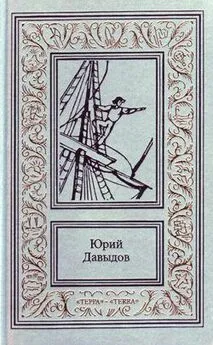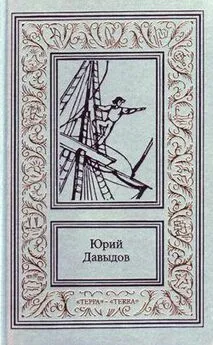Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Название:Соломенная Сторожка (Две связки писем)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем) краткое содержание
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Соломенная Сторожка (Две связки писем) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я должен был удостоверить убийство. Я удостоверил самоубийство. Я скрыл правду и выбрал ложь. Не ради спокойствия г-на смотрителя и господ офицеров, у которых не теплилось ни малейшего желания возиться с расследованием. Выходит, ради убийц? Ради тех, кто, заподозрив Успенского в доносительстве, завел его в арестантскую баню да там, в запечном осклизлом углу, и прикончил. Опять, как недавно, в лазаретную ночь, я ощутил этот новый реализм, эту новую трезвость и новую логику. Но теперь я понял и то, что эти реализм, трезвость, логика выжигают не только срединное, а выжигают, изничтожая, и тех, кто исповедует их. Когда Успенский убивал Иванова в гроте Петровского-Разумовского, он уже обрекал себя самого. Когда здесь, в Карийской каторжной тюрьме для государственных преступников, убивали Успенского, его убийцы тоже обрекали себя. Все они были «несчастными».
В стихах, обращенных ко мне, покойный Петр Гаврилович писал:
Но день настал для пробужденья,
И круг распался темных чар.
И полна гнева и смущенья
Душа стряхнула злой кошмар.
Днем моего пробужденья Успенский полагал время, когда он и его товарищи пришли на Кару. Да, так было. Но так уже не было, когда я вошел в сырую, пахнущую прелью тьму арестантской бани. Круг темных чар сомкнулся.
Обороняясь, я хватался за то, что гибель Петра Гавриловича была следствием особой нервозности, эпидемическим помешательством на тюремной почве. Но, боже мой, где в наших-то палестинах иная почва? Все мы каторжные, равно в остроге и вне острога, с кандалами и без кандалов. Поколениям илотов создать ли Царство Свободы? Откуда произрасти ему? Из этой пади, где речка называется Карой, сопка – Арестантской башкой, а улочки «вольного» поселения – Говнюшкиной и Теребиловкой? За частоколом солдатских штыков гикает Сашка-палач: «Берегись! Ожгу!» И волком воет: «Слу-уша-а-ай».
Странно, когда воротят нос: «Ох, уж эти арестантские сюжеты… Надоело!» И верно, надоело. Но как тут не вспомнить Чехова?
Поехал Антон Павлович на каторжный остров Сахалин. Проехал царство от края до края. И вздохнул горестно: а ведь, кажется, все просахалинено .
VII
Побег Лопатина с жандармской гауптвахты был краток. Его нагнали и едва не зарубили. Окруженный верховыми и пешими, он был доставлен уже не на гауптвахту, а в иркутский острог. И помещен не в общей камере, а в секретной.
Глубокой осенью распутица властно затормозила «поэтапное движение», острог, как запруда, переполнился кандальниками, и секретную камеру вроде бы рассекретили – Лопатин получил соузника.
Этот коренастый бородач, сверстник Лопатина, был арестован еще в шестьдесят шестом, вслед за каракозовским покушением, то есть чуть раньше Лопатина: оба сидели в Петропавловке, но в куртине не встретились, а теперь вот и сошлись. Лопатина поначалу совсем не интересовало давнее, каракозовское, во многом ему известное. Оно и понятно: на поселение в тундре везли Николаева с востока, с той стороны Байкала, из Александровского завода, – и Лопатин тотчас и нетерпеливо: что и как Чернышевский?
Коренастый бородач не заставил просить дважды. Подобрав кандалы, откинувшись широкой, почти квадратной спиной к стене, рассказывал:
– Если бы вы знали, что за человек… Я первое время крепко затосковал. Эх, думал, все светлое, все хорошее – тю-тю, не воротишь. Не мог скрыть свою муку, ходил-ходил но двору как неприкаянный. Он однажды и спрашивает, очки на носу: «Гуляете?» Плохо, говорю, гуляется, Николай Гаврилович, гулять плохо, не гулять – еще хуже… Спрашивает: «Пословицу помните? «Терпи, казак, атаманом будешь». Протопоп Аввакум скуфьей крыс пугал в подземелье, горд был, не размазня-кисель. Мы с вами малюсенькие, нам и посидеть не грешно, посидим – и выпустят, дело верное»… По большей части бывал весел или казался веселым – ободрял других…
Он весь так и светился, произнося уже не «Чернышевский» и не имя-отчество – произнося «Учитель», а Лопатин слушал так, будто он в Александровском заводе, где у Чернышевского свой закуток для ночлега и письменных занятий.
Но чем дольше и больше рассказывал Николаев, тем чаще и пристальнее Лопатин возвращался к мысли, имевшей для него значение чрезвычайное, непреходящее.
Мысль эта была об Учителе и учениках. Таких, как этот коренастый бородач с глазами светлыми и смелыми. Николаев искренне причислял себя к ученикам Учителя. Совершенно искренне, в том не было ни малейшего сомнения. Он читал все, или почти все, написанное Учителем. Да ведь и немецкие бурши, что некогда разбойничали в Богемских горах, разбойничали, начитавшись Шиллера. Они были эхом Шиллера – дробно-искаженным скалами обстоятельств.
С неослабным вниманием Лопатин слушал Николаева, из всего сказанного получалось, будто Учитель признает годность любых средств в деятельности революционной. Да, да, именно так получалось у этого ученика, повторявшего слово Учителя: тот, кто шествует по пути истории, не должен бояться запачкаться… Лопатин слушал с неослабным вниманием, но уже не был мысленно в остроге Александровского завода, да будто и здесь не был, в остроге Иркутском, а был в глухом углу, где пахло прелью и тленом, в сумраке означалась, уронив мертвую голову, длинная тень Ивана Иванова… С минуту Лопатин стоял, уже не слушая коренастого бородача, но вот подошел к нему, положил руки на крепкие его плечи и в глаза заглянул, светлые и смелые глаза, светившиеся нежностью к Учителю.
Николаев примолк на полуфразе и, еще не сознавая почему, отчего, насупился, ощущая настороженную враждебность к этим рукам на его плечах, будто к рукам исповедника и проповедника. Кто ты такой, почти злобно подумал Николаев, кто ты, собственно, такой? Ты, брат, отгреми железом хоть годик, а потом… И, не опустив глаза, произнес твердо:
– Ну, спрашивайте.
Лопатин отстранился, сел на табурет, сказал:
– Напрямик?
Николаев усмехнулся и стал закуривать.
То, о чем спросил Лопатин, относилось к некоему Федосееву. Витенька был теперь где-то в Енисейской губернии, а в студенческие годы Лопатина тоже учился в университете. Судил же Федосеева, как и Николаева, Верховный уголовный суд.
– Если не запамятовал, – сказал Лопатин, – в обвинительном акте по делу вашей «Организации» указывалось, что он согласился отравить отца, богатого помещика?
– Не запамятовали.
– Согласие всегда ответ на предложение. Стало быть, ваша «Организация», кто-то из ваших подал ему «отравительную идею»?
– Федосеев разделял наши убеждения. И во имя этих убеждений готов был отравить отца, наследство же передать «Организации». Свое состояние, понимаете?
– Свое?
– Не ловите на слове. И не отцовское – у народа награбленное.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: