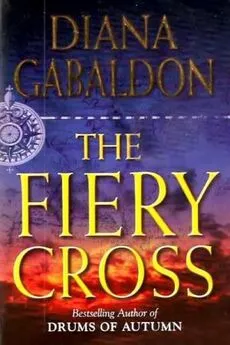Юрий Власов - Огненный крест. Гибель адмирала
- Название:Огненный крест. Гибель адмирала
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Прогресс», «Культура»
- Год:1993
- ISBN:5-01-003925-7, 5-01-003927-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Власов - Огненный крест. Гибель адмирала краткое содержание
Являясь самостоятельным художественно-публицистическим произведением, данная книга развивает сюжеты вышедшей ранее книги Ю. П. Власова «Огненный Крест. «Женевский» счет».
Огненный крест. Гибель адмирала - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подпружинил ногтем тайничок, распахнул и зорко так глянул на своего вождя.
— Нет, не сорвется, Флор Федорович. Вот сюда надавливайте.
Все понимал камнерез, да к тому же другом был душе Флора Федоровича, не просто единомышленником, а другом. Что единомышленник? Завтра покажется, ты не так ответил, еще через месяц — не так бумагу составил. И уж готов отступиться от тебя. В параграфах его чувства. А друг — это от сердца.
Камешек приспособил он самый дешевый (рыженький сердолик, вроде собачьего ока), кто на такой польстится? И. оправа — даже не серебро, а железо. То на одном пальце надо носить, то на другом: преет кожа, когда железный. Зато под камешком (в непромокаемой упаковке) — цианистый калий. Комариная доза, а лизни — и завалишься. Это понадежнее, чем от пули: пока сподобишься падать, уже свернется кровь и замутится рассудок.
А маузер и браунинг всегда клал возле себя (само собой, и когда озоровал с бабами). Деликатно так стукают, когда выпадают из ладони на столик: один (этот потяжельше) и другой (дамская игрушка, пустячок). Спи, с бабой озоруй, а чуть что, руку отбрось — и сами западут в ладонь, какой хошь. И тут уж кляни судьбу и дави на спусковой крючок. Не возьмут, жабы! Подавятся свинцовым горохом, мать их! Не хватит йода на дыры!..
А баб и не стращали маузер, браунинг и вообще пулемет с гранатами — даже не перекрестятся, это не Стеша. Насмотрелись за эти годы: пуганые. Сколько раз: озорует с ней мужик (в соку, красавец, при капитале или же пайке), а через час уже на веревке — шея как у гусака, в исподнем, синий… Все по поговорке: нынче полковник, а завтра покойник. И даже не завтра, а туточки, сразу. Еще титьки и «срам» в горячности от его ласк и стараний…
Грустная поговорка.
И никто не удивляется: Гражданская война. Многорукая у нее судьба. Нынешним днем живи — это ж просто зарубить себе на носу надо. Других дней может и не быть, этому, голубь, улыбайся, до единой живиночки в себе радуйся. Так-то вот…
Радуйся, коли жив. Ведь жив! Почитай, у каждого дня стальные когти и волчий рык…
Покручивая перстенек, Три Фэ частенько вспоминал притчу: «Других спасал, а себя не может спасти». И многозначительно поглядывал по сторонам. Вот оно как…
Камнерез задал загадочку на прощание. Этак тихо молвил:
— Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых.
А к чему, зачем — не намекнул даже, лишь полюбовался еще раз перстеньком да протянул Три Фэ. А глянул так — достал до дна души Флора Федоровича, к самому сокровенному приложился.
На миг обнажил себя человек — и сунулся обратно в личину камнереза и мастера ювелирного дела. Удобно в личине: не ранят, не лапают, не вешают свою дурь. Чудак был этот камнерез. Был — поскольку через две недели ссыпал в кисет с махрой камешки, прибереженные за все 30 лет искуса на ювелирном месте; свернул да спрятал в долбленую палку какие-то бумаги (очень важные, с печатями, одна — с личной императорской подписью) и ушел пришаркивая — в самый раз палка: худо гнется колено. В тягость с такой ногой. Молод был, глуп, когда подстрелили…
Никто больше и не видел камнереза. Опостылели, видать, человеку Иркутск и вообще вся революционная суета — никакого азарта на строительство светлого завтра. Ушел с чемоданчиком (смена белья, шматок солонины, две бутылки самогона и пузырек с кокаином — верный пропуск в скитаниях). Куда увел его Бог — никто не ведает, а был верным эсером, под пули ходил, без нервов человек…
Ковыляй, ковыляй, родимый…
Жизнь на свете хороша,
Коль душа свободна,
А свободная душа
Господу угодна…
Утек ведь — и от кого? От тех, кто с ленинским зарядом слов, а это, почитай, вся Россия. Стало быть, от нее, от своей разлюбезной Отчизны и сыпанул (ежели с палкой и ковыляешь — это не значит, что ты не сыпанул; еще как сыпанул!). Невмочь камнерезу ее речь, порченые слова, и как давят людей — ну море воздуха, до самых звезд, а не идет этот самый дых, стрянет в груди, муть в глазах…
Затравленный тренировками (зал, натужная работа, измучен-ность — и это почти доброе десятилетие), я бессознательно искал разрядку. Вино и водка ее не давали, да и не получалось это у меня. От книг и рукописей обалдел. Так обратился к птицам (папа в пять лет подарил щеглов — с тех пор люблю их), держал до 30 штук: соловьи, варакушки, щуры, черноголовые славки, коньки… За каждой — свой уход, а это хлопоты, они и отвлекали, в общем-то, от полукаторжной жизни, суровой расплаты силой за право писать. Я учился писать, обеспечивая это тренировками, силой. Шесть раз выходил на помосты чемпионатов мира — и пять раз побеждал. Что-то около восьми-девяти лет носил звание «самого сильного человека мира». Было и такое. По тем временам поднимал тяжести диковинные…
В ту пору еще водились знатные мастера-птицеловы, некоторые не уступали и шамовским (хорошо рассказано о них в книге Шамова, а русский язык этой книги — купаешься в слове).
Среди птичников выделялся угрюмым, сварливым и запойным нравом Ковалев (имя не помню): худощавый, взгляд из-под бровей, неподвижный, недобрый; речь отрывистая, грубая. И в повадках много волчьего. Звал я его Командармом.
Однако мы сошлись. Не так чтобы очень, но сошлись, хотя в душе он презирал меня за расточительство. Я изрядно тратился на птиц. Меня дурачили, всовывали дурной товар, пока я в этом деле не стал смыслить…
Где-то в середине 70-х годов вышли у него нелады с милицией, да такие — снялся в одночасье и переселился в алтайскую тайгу. Бобылем жил, незаконно промышлял пушного зверя. Раза два наведывался, но, думаю, не из-за привязанности. Кое-что из своего товара (собольи шкурки) пробовал сбыть мне. Много рассказывал, очень много. Пил по-черному, зверея, ненавидя все вокруг.
А после сгинул. Думаю, погиб. Подарил я ему на память редкое ружье, осталось после отца. Вызвало это зависть среди птичников. Много худого говорили про Ковалева, особенно Рыжий — так звал я Олега Черкашина, доброй души парня, а вот развела судьба, поссорила.
Однажды Ковалев разоткровенничался. Поломал ему жизнь один махонький случай. Не случай, а пустяк, соринка. Возвращался он как-то с ночной смены, еле ноги тащил. Решил пойти напрямик к себе в Давыдково.
Жил он неподалеку от Кунцева, тогда еще самостоятельного городка. С северной стороны, впритык к даче Сталина, лепилась деревенька — эта самая… Давыдково, что как раз по речушке — Сетуни, коли не изменяет память. Бывал я у него. Неухоженный бревенчатый дом, ни мебели, ни вещей — один ветер гуляет. Жена добро, но устало улыбнулась, она была в запаре работы: «накатывала» шаблоном цветы на скатерти. Ковалев взял водку, и мы отправились слушать скворцов: целая колония их там распевала. Он пил, я не стал — и разбирали каждое коленце в скворцовой песне: где умелец, а где обыкновенный трескун. Трещит по молодости, никакой песни… «жеребчика» там или свистов погоныша… Птичники птиц без песни (одно верещанье да треск) или с очень ограниченным набором («набор» — это узаконенный термин) не то чтобы с презрением, а с отвращением, брезгливостью называли (может, еще и не вывелись все, тогда и сейчас называют) «помойными». Крутятся у помоек, жилья. Нет тут лесных птиц и звуков, от которых у пересмешников все богатство песни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: