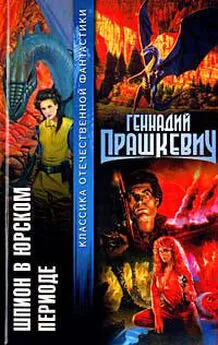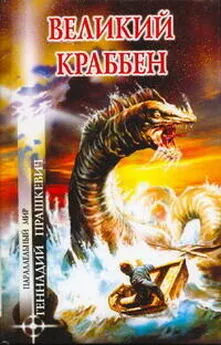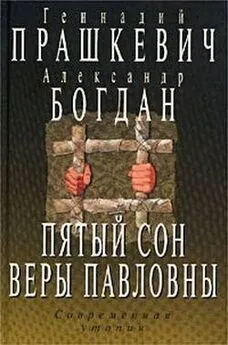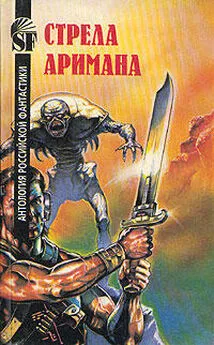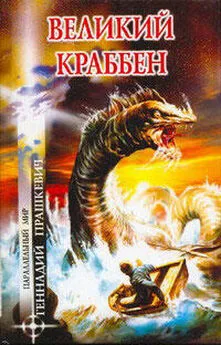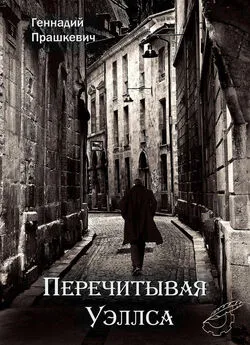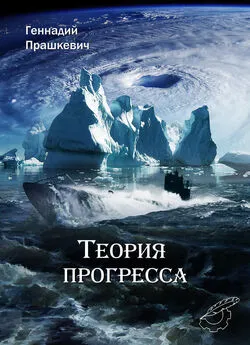Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Название:Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Новосибирск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] краткое содержание
или
? Не торопись. Если в горящих лесах Перми не умер, если на выметенном ветрами стеклянном льду Байкала не замерз, если выжил в бесконечном пыльном Китае, принимай все как должно. Придет время, твою мать, и вселенский коммунизм, как зеленые ветви, тепло обовьет сердца всех людей, всю нашу Северную страну, всю нашу планету. Огромное теплое чудесное дерево, живое — на зависть».
Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
До письма в ЦК (точнее, до отдельной квартиры) обитали в коммуналке.
Ничего страшного, многие так жили. Среди живых людей. Длинный коридор, деревянные лари с навешенными на клямки замками, хмурые запахи из общей кухни, всякий хлам, мешки. Иногда появлялся почтальон, передавал письмо. Пояснял: «К нам поступило в поврежденном виде».
А то!
Понимаем.
Однажды пьяный сосед вызверился.
Сперва бахвалился: «Вот жизнь налаживается, твою мать! Вот как жизнь налаживается! На Урицкого-то открыли новую лавку, там чего только нет. И штуки мануфактуры. — Сосед пьяно-криво, но на удивление легко выговаривал сложные слова. — И хромовые сапоги, и гармоники. В продуктовом отделе — бочка с жирной селедкой, загорбок у каждой что у нашего бригадира».
Вдруг обнаружил на кухне посмеивающегося Деда.
«А ты чего лыбишься? Тебя-то с какого лесоповала турнули?»
Дед ответил: «С шанхайского».
Сосед не понял, выпучил водянистые глаза.
К счастью, выглянул из своей комнатушки еще один сосед, на вид совсем непотребный. Всегда хотел чего-то, да хотя бы и драки. Выглянула Марья Ивановна. Вместе замяли, утишили скандал. Потом (уже в своей комнатушке) Дед для утешения читал Маше стихи Апухтина.
«Безмесячная ночь дышала негой кроткой, усталый я лежал на скошенной траве. Мне снилась девушка с ленивою походкой, с венком из васильков на юной голове…»
Бывшая директриса слушала строго.
А Дмитрий Николаевич Пудель — улыбался.
Ты смотри, улыбался, какие у них нежности, прямо сердце тает.
А ведь Марья Ивановна не так уж давно самолично заправляла большими делами в каких-то там ойротских Кочках, сама могла вершить отдельные судьбы. А ведь в незабываемом огненном девятнадцатом Дед в этого нынешнего своего коммунального соседа запросто мог из револьвера пальнуть.
Вот ушло время.
Остались — стихи.
Прошлым женам тоже читал стихи.
Первую звали Анна. Она лучше всего чувствовала Блока.
«В час рассвета холодно и странно, в час рассвета — ночь мутна. Дева Света! Где ты, донна Анна? Анна! Анна! — Тишина».
А потом — финал. Всегда (хоть сто раз читай) неожиданный.
«Только в грозном утреннем тумане бьют часы в последний раз: донна Анна в смертный час твой встанет. Анна встанет в смертный час».
Анна, тихая дочь протодьякона из Костромы, и Дед, студент историко-филологического факультета, что они тогда понимали? Самая обыкновенная история, почти по Гончарову. Никаких революций. Таганцевская гимназия в Санкт-Петербурге, Бестужевка, отделение биологии.
Чудесная коса. Взгляды, касания. Венчание летом четырнадцатого и сразу Большая война. У Деда — фронт, у Анны — ожидание. Тоже обычно всё. Увиделись только в семнадцатом — в Ярославле. Души обожжены. У нее сильнее. Преподавала в советской школе, конечно, была отсеяна — за посещение церкви. Так и шло. В конце концов постриглась в монахини под именем Магдалина.
Марья Ивановна о прошлых женах Деда узнавала от Пуделя.
Конечно, все услышанное принимала осторожно, как бы с некоторой неохотой, но (к Пуделю) со скрытой благодарностью. Знала, что отец Веры Анатольевны (второй жены Деда) был царский генерал-майор (со всех сторон — малина), мать — писательница, тоже царская, не из каких-то Кочек, не из Ойротии. Здоровья и любопытства той Вере было не занимать. Не могла пройти мимо увиденного, всегда хотела вникнуть. В двадцатом году, например, под железнодорожной станцией Тайга среди сложенных на обочине мерзлых трупов Дед увидел убитого офицера с книгой в руке. Как так? Какая книга? Морозное бледное солнце в розово-белом дыму, ни звука, ни скрипа, твою мать, почему офицер с книгой?
Но останавливаться не стал.
А вот Вера не поленилась бы остановиться.
Удивлялась: «Ты почему не посмотрел? Хотя бы название!»
Вера к названиям книг относилась как к окнам. Одни бывают пыльные, непроницаемые, как бы в мутных потеках, другие — пронзительно ясные. За неистребимое любопытство отличницу Веру оставляли при кафедре русской истории Императорского Санкт-Петербургского университета, но в ноябре четырнадцатого она сама, добровольно, ушла на фронт. На все у нее сил хватало. Сестра милосердия под Варшавой, в Галиции, на Западном фронте — под Минском, на Северном — под Ригой; Георгиевские медали «За храбрость» третьей и четвертой степени, Аннинская золотая — второй степени, Владимирская серебряная.
С мужем встретилась только в Перми.
Ох, этот самый неслыханный пермский период!
Самогон, караулы, крестьяне, опасливо объезжающие заставы.
Хорошая водка. Плохая водка. Русский язык, твою мать. Самогон. Все как взбесились, никого не поймешь. Еще сын родился. По имени Гришка. Вера вставала рано, решительно умывалась, убиралась и, подтянутая, с ребенком на руках (никому Гришку не доверяла), отправлялась в отдел снабжения уездной продовольственной управы, где служила. Впрочем, весной девятнадцатого пермский период окончился. Деда вызвали в Омск — вице-директором Русского бюро печати, показывать людям оскал красного зверя, открывать глаза сомневающимся.
Русское бюро печати — это борьба против революции.
Самое надежное оружие такой борьбы — насилие, но против кого?
Против брата, отца? Но как рассказать солдатам и офицерам, что кровь у нас одна? Правда, с оттенками. Как успокоить и вдохновить? Как уверить в едином (с оттенками) Божьем начале?
«Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен».
Был, возможно, такой человек и в летней Перми, и в зимнем Омске, и в пыльной ветреной Чите, только носил на плечах светлую офицерскую шинель с золотыми погонами.
В Омске Бюро печати разместилось на Театральной площади в доме Липатникова.
Руководил заведением профессор Устрялов — высокий, с серебряной бородкой, в очках. «Теория права как минимума нравственности в исторических ее выражениях». Известная работа. Деду поручил газеты, плакаты, пропагандистские воззвания. Умел любое дело организовать. Так хорошо умел, что в двадцать пятом году, вернувшись из эмиграции в новую Россию (и такое случалось), от самого Сталина услышал в свой адрес (на XIV съезде ВКП(б)) нечто вроде одобрения. «Служит у нас на транспорте. Говорят, хорошо служит. Ежели он хорошо служит, то пусть мечтает о перерождении партии, мечтать у нас не запрещено».
Слова вождя (уже уверенного) профессора не спасли.
А Дед в Омске успешно поднимал тираж им же тогда придуманной «Нашей газеты», переправлял ее номера поездами в Новониколаевск и в Томск, понятно, на фронт — с курьерами.
«Зачем в твоей газете столько вранья?» — удивлялась Вера.
Дед объяснял. У каждой власти есть пушки, кавалерия, пулеметы. Значит, объяснял, должны быть и толково, даже талантливо врущие издания. Без этого никак. Без этого нет порядка.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Прашкевич - Гуманная педагогика [из жизни птеродактилей]](/books/1070981/gennadij-prashkevich-gumannaya-pedagogika-iz-zhizni-p.webp)