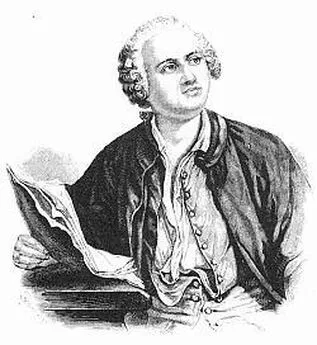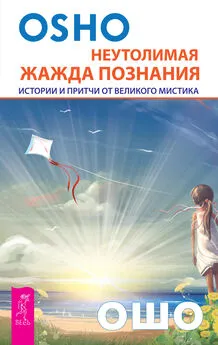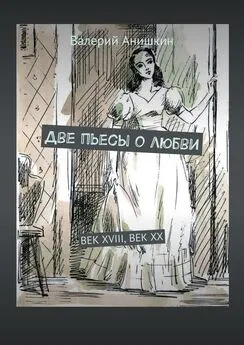Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII
- Название:Жажда познания. Век XVIII
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Ломоносов - Жажда познания. Век XVIII краткое содержание
Жажда познания. Век XVIII - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Ещё расскажу, — всё же заговорил Ломоносов, решив довериться Широву, ибо только в себе носить такое, да ещё учёному, трудно. Широв же коллега, ученик его, а ныне и сам уже муж учёный, должен понять. В мистицизме али бо и того хуже — в шарлатанстве не обвинит, свой он и ему, Ломоносову, верит.
— Ты, Лексей, верно, знаешь, что из дому, от отца, ушёл я учиться в Москву девятнадцати лет, — начал Ломоносов, и Широв в ответ согласно кивнул. — И с тех пор отца я ни разу не навестил и ни разу, до его смерти, не видел.
Ломоносов грустно потупился и, будто бичуя и казнясь, сам себя укорил:
— В том моя великая вина перед отцом! Вина несмываемая... Письмишками отделывался, но не навестил...
— Так ведь когда же вам было? — участливо вмешался Широв. — Учёба, заграница на четыре года, дела. Когда вырваться?
— Всё так, — грустно согласился Ломоносов. — Он как раз и умер, когда я был в Германии. О том и рассказ мой, но вину свою всё равно чувствую. Оттого, вероятно, а может, и ещё отчего и случилось странное... О чём и хочу рассказать.
И Ломоносов стал неторопливо, с грустью в голосе, рассказывать, что случилось с ним:
— Знаю, отец мой тосковал по мне в последние годы жизни, а перед смертью звал меня и мыслью ко мне стремился. Метался я тогда по Германии, дорогу в Россию изыскивая, и вот однажды, весною, засыпал смутно, и приснился мне смутный сон. Снился мне отец. И был он один-одинёшенек на известном мне острове в нашем море, куда нас с ним однажды, когда я ещё мальчишкой был, на гукаре нашем в бурю выбросило.
Тот остров, низкий, пологий, ветром насквозь продуваемый, я в том сне как наяву увидел. Как на нём отец оказался — не ведаю. Но только плохо было ему. Изнемог он от трудов своих, и видел я — кончается. Один, помочь некому, пусто вокруг, а он меня, сына своего, зовёт. Приподнялся с ложа, лицом исхудавшим ко мне обратился и зовёт:
— Михайла, сын мой, где ты? Помоги!..
Ломоносов сглотнул слюну, превозмогая спазм. Видилось Широву, что хоть и годы прошли с тех пор, но трудно ему забыть такое.
— Рванулся я, вскочил в порыве отцу помочь и... проснулся! — Ломоносов сокрушённо развёл руками, глядя на Широва, словно оправдываясь за свою беспомощность. — Сон это был. Сон! Но недаром говорят в народе о вещих снах. Я от того сна так просто уверился, что отец мой в ту весну умер. И я точно знал где — на том острове в Белом море.
В тишине громко тикал большой хронометр в ажурном медном корпусе. Серый сумрак уходящего зимнего дня вползал сквозь окна в неосвещённую лабораторию, и лишь на возвышении, ярким, кроваво-красным глазом, светилось огненное окошечко остывающей финифтяной печи.
— Как тем летом вернулся я в Россию, — негромко продолжал свой рассказ Ломоносов, — так и застал там уже давно поджидавшее меня известие из дому: отец ушёл в море и не вернулся. Я сразу же отписал знакомым поморам, умолял, упрашивал их зайти на сей безымянный остров, поискать на нём тело отца. И карту подробную нарисовал с описанием, как идти и где искать.
— И что? — словно слушая сказку, подался к Ломоносову Широв, весь изображая нетерпение. — И что? Нашли?
Ломоносов помолчал секунду, ещё более серьёзно посмотрел на Широва и тихо ответил:
— Нашли.
— На том острове?
— Да. На том острове. На том самом!.. Рассказали бы мне это другие, ответил бы им — небылицы плетёте. Но ведь сие не другие пережили... Не другие, а я сам! И за слова свои ручаюсь!
— Так что же? Чудесное видение?
— Не знаю. — Ломоносов снова задумался, на секунду замолчал, потирая щёки и подбородок, потом продолжил уже твёрдо и обдуманно: — Но было это! Факт это! Фактам же я верю и уважаю их!
Действительно, ничего не мог сказать против этого Широв: умел Ломоносов наблюдать факты и делать из них выводы.
— Так вот, раз это факт, то есть и причины, сии факты порождающие. Они в непознанных свойствах человеческих, которыми мы вполне владеть ещё не научились и которые порой нам кажутся чудом. Что юродивый, в мороз на снегу без опаски лежащий, что баба, гору сдержавшая ради спасения дитя, что моё видение... Наверное, в одном ряду эти явления стоят. Какие-то внутренние силы в вас есть, и в редчайшие минуты, и не у всех, но они проявляются.
Снова остановил речь, потом заключил:
— Когда-нибудь познают свои свойства люди. Доберутся до всего тайного. Но не мы, и это единственное, что я об этом знаю точно. Не мы! — замолчал и, отрешённо глядя в стекло потемневшего окна, подумал: «Непознанные законы природы, сколько вас? И сколь вы сложны?»
Шумахер, усадив в своём величественном кабинете, в креслах против себя, профессоров Миллера и Бакштейна, ставил перед ними дилемму: если в академии не только лекции, но и научные сочинения станут излагать не по-латыни, а на русском языке, верно ли будет?
— Латынь есть общенаучный язык. От древности и до наших дней всё на нём сообщается и пишется, — весомо говорил Шумахер, и профессоры солидно и согласно кивали париками. — А что у нас? Вон Ломоносов не успел профессором стать, как сразу же ввёл чтение лекций по-русски. Полезно ли нам это есть?
— Не полезно! — сразу же отсёк Бакштейн. — Ныне мы, латынью владеющие, уже по одному тому — избранная элита. Это нас над другими возвышает. А если данный барьер разрушить, то на бастионы науки кинется чернь, и нам их не удержать.
— Да. Это так, — отвечал Миллер. — Но мы от Ломоносова ни одного специмена и ни одной статьи на русском и не принимаем! Заставляем переписывать по-латыни, хотя он и противится.
— И впредь не принимать! — одобрил Шумахер.
— Однако есть трудности, — словно смущаясь и испытывая неудобство, ответил Миллер. — Кое в чём Ломоносов истинно прав, и нам порой трудно возражать.
— Какое значение имеют истина и правота, если они нам не полезны? — резко и откровенно выкрикнул Бакштейн, заработав тем одобрительную улыбку правителя канцелярии.
— И всё же. Вот подготовил профессор Ломоносов сочинение: «О пользе книг церьковных в Российском языке». Там почти всё на церковнославянском, о его пересечении с нынешним языком и влиянии на него. Как же такое на латынь переводить?
— Неважно, неважно! — кликушески упорствовал Бакштейн. — Тогда это сочинение надо раскритиковать, отбросить, запретить. Надо объявить, что оно целиком неверно, ошибочно, вредно. Но ничего, ничего по-русски не пропускать!
— В словах коллеги есть разумное основание, — теперь уже смягчая резкость Бакштейна, сказал Шумахер. — Если даже не найдётся веских причин для отвода сочинения, надо его надолго отложить, задержать. Потом что-нибудь придумаем. Тактика наша должна быть гибкой, но постоянной и временем не разрываемой.
— Но всё же лекции Ломоносов продолжает читать по-русски, — возразил Миллер.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: