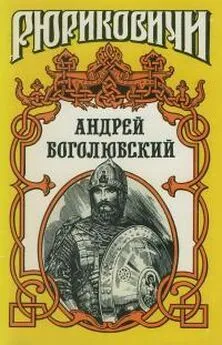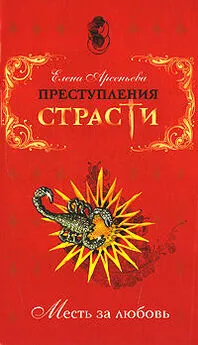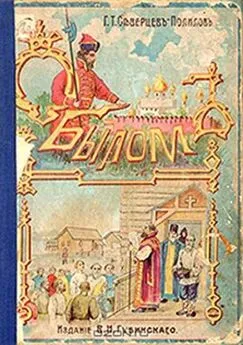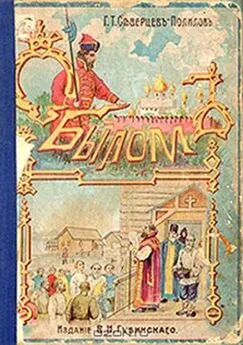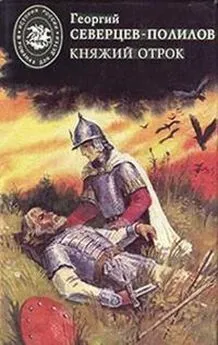Георгий Полилов - Андрей Боголюбский
- Название:Андрей Боголюбский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-87994-057-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Полилов - Андрей Боголюбский краткое содержание
Андрей Боголюбский - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Левее, под обрывистыми бережками, Москва-река, отражая небесную огневую живопись, сияла пламенной щелью.
Владимир Всеволодович, следя за её течением, видел, как она, мало-помалу угасая, бежит куда-то очень далеко и, обогнув заложенные белой мглой луга, будто оттолкнувшись от высокого кряжа догорающих на закате кудрявых берёзовых гор, возвращается дугою назад, к нему под ноги.
Здесь, вблизи, её гладь была ясна и зелена. Чёрными кистями колебались в ней вершины опрокинутых елей. За Москвой-рекой на просторной сырой луговине паслись спущенные в ночное лошади. Оттуда доносился скрипучий крик коростеля. Бродячие клочья болотного пара цеплялись за круглые ивовые кусты. А за лугом шли и тут ряд за рядом сплошные леса: сосняки да ельники и вперемешку с ними - моховины, голые зыбуны, кочкарники, а там опять леса да леса, не замкнутые с этой стороны ничем, безбрежные.
- Усторожливое место! - сказал воевода.
Мономах молчал.
На реке показались четыре гружёных ладьи. Стрежевой поток относил их к кремлёвскому подолу. На тихой воде светился их долгий плетёный след.
— Новгородские, чать, гости,— вымолвил, глядя на них, Кучко.— Тоже, знать, осмелели, не страшатся больше здешних лесов.
— А куда плыть-то эдакой глушью? — спросил Фома.
— Кто их знает, куда? Верно, в Абрамов город, к мордве [9] ...в Абрамов город, к мордве... — Абрамов, он же Ибрагимов, он же Бряхимов — город, упомянутый под 1164 г. в рассказе о походе Андрея Боголюбского на волжских булгар. Точное расположение его неизвестно.
, а то в Булгар.
— Да разве так прямее путь, чем Волгой?
— Как не прямей! Почесь, вдвое короче. Шошу-реку видал, что в Волгу впала?
- Видать не видал, а слыхать слыхал.
— До Шоши Волгой идут с самой её вершины — Серегерским путём,— продолжал Кучко. — Потом восходят по Шоше. А в Шошу Лама-река впала. По Ламе поднимутся, а там волоком ламским переволокут челны до Рузы-реки. А Руза в Москву-реку впала. Вот те и весь путь.
Воевода недоверчиво хмурился, шевеля выцветшими бровями. В своих краях ему, старому степняку, знакома была не то что всякая речушка, а и каждая сухая балка. В этих же чужих лесах всё казалось ему диковинным, неверным и непонятным. Да и реки здесь не такие, как там. Тамошние все в одну сторону текут: что Днестр, что Буг, что Днепр. А здесь — одна сюда, другая туда, и все извивами да перевёртами. Он ещё раз обвёл недружелюбным взором затейливые изломы Москвы-реки.
— На твоих словах, парень,— сказал он,— что на гусях, куда хочешь улетишь! А на деле... Ты гляди-ка, куда река-то забирает: на самый полдень. (Он указал рукой влево, на лесистое береговое взгорье, которое невысоким хребтом тянулось в самом деле почти прямо на юг.) А ты вякаешь — в Абрамов город, в Булгар! Поплывёшь в Булгар, а угодишь в Курск.
И Фома Ратиборович, победоносно выкатив жёлтые глаза, скосил их на князя, ища у него одобрения.
— В Курск не попадёшь, а Рязани не минуешь,— снисходительно усмехнулся Кучко,— Рязанцы иным путём к нам в Суздаль и не ходят. Оно хоть и кружно, да удобно. А прямьём, сухой ногой из Суздаля в Рязань вовек не доплетёшься: там трясины такие, что, того и гляди, с головой в окно уйдёшь. А теперь, воевода, глянь-ка ты вон куда.
Он показал вниз по реке, на конец большого поёмного луга. За лугом на прибрежной горке неясно различались в сумерках какие-то строения. Речка Яуза в Москву-реку впала. Её сейчас отселе не увидишь. Речушка тесная, да долгая: сквозь глухие леса сочится. Вот в неё-то новгородцы и свернут. В самом её верху болотный переволок с озёрами. За тем переволоком сразу и Клязьма-река. А дальше, чай, и сам знаешь: Клязьмой спустишься до Оки, Окой — до Волги. А где Ока в Волгу впала, там на Дятловых горах и Абрамов город.
Кучко даже брови задрал, словно дивясь тому, что приходится растолковывать такие общеизвестные вещи.
Мономах не вслушивался в беседу спутников. Все, что говорил Кучко про здешние речные пути, было для него не новостью. Но на этом мысу он ещё не бывал. И при виде неоглядной, заметно уже потемневшей лесной пустыни, которую будто измяла чья-то сильная, но нежная рука, он впервые попытался связать в один, ещё не тугой узел всё, что знал об этих таинственных дебрях и что думал о них.
Намётанный военный глаз Фомы Ратиборовича не ошибся: место было и вправду на редкость усторожливое. Любого врага углядишь издалека, и от любого уберегут реки да кручи, непролазные топи да леса, где от века пашни не паханы и дворы не ставлены. Будто затем и вздыбилась эта гора на самом полуденном краю Суздальской земли, чтобы стеречь её и от Рязани, и от Чернигова, и от Смоленска, и от Новгорода.
Но было ещё и другое: знал Ходота, где рубить городец! Догадался старый, где способнее всего брать пошлину с проезжих гостей! Ведь именно здесь, вероятно, минуя захиревший Киев, сойдутся теперь ожившие за последние десятки лет торговые дороги из Балтийского моря к булгарам, на волжский низ, и через Рязань по Дону-реке в русскую Тмутаракань да в греческий Сурож.
И земля своя, русская, куда ни погляди, на сотни вёрст вокруг. Вечерний туман, поднимаясь, доносил её крепкий растительный запах.
Мало ли богатырей было в Киеве при дедах и прадедах! Мало ли сказано про них былин да сложено песен, памятных Мономаху с первых годов жизни! Но не странно ли, что только сейчас, у дверей гроба, только здесь, под этими чёрными соснами, стал проясняться по-новому потаённый смысл знакомых наизусть древних сказаний!
Подвиг у всех был тот же: что Илья, что Добрыня, что Алёша, что Ян-Кожемяка - все, как один, и каждый по-своему, богатырствуя в Киеве, стояли за Русскую землю и добывали ей всесветную славу. Это так. Но кто же они, эти храбрецы, воспетые народом с такой мудрой любовью? Не княжеского роду, не боярского племени, а простого звания люди: смерды, холопы, ремесленники. А сошлись откуда? Отовсюду: кто из Ростова, кто из Новгорода, кто из Переяславля, кто из-под Мурома, где и посейчас живы, надо быть, их внуки и правнуки.
Народ знает своё дело и помнит своё родство. Как придёт час встать за Русскую землю, за вдов, за сирот, за бедных людей, аукнется по старине Ростов, зыкнет с речного нагорья Муром, откликнется из-за лесов Чернигов, отзовётся из-за озёр Великий Новгород. Услыхав богатырскую переголосицу, мигом вскочат на лохматых коней и Микула, и Илья, и Добрыня, и Олешенька, не испугаются дальних дорог, найдут место, где съехаться и стать заставою.
Уж не сюда ли съедутся? Уж и впрямь не здесь ли сердце Русской земли?
Эти новые, ещё нестройные домыслы только брезжили в голове у Мономаха расплывчивыми грёзами. Надежды граничили с сомнениями, мешались с тревогами. Чтоб побороть их хоть на время (Владимир знал свой нрав), надо было от смутных мыслей перейти к решительным словам, от слов к скорому делу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: