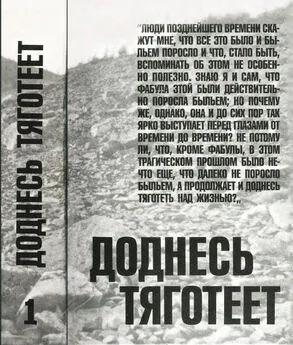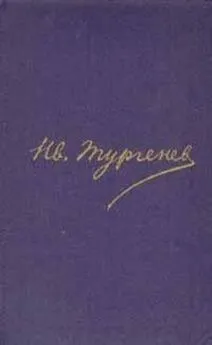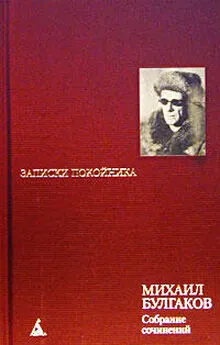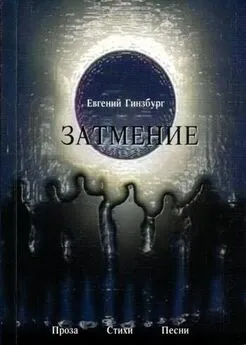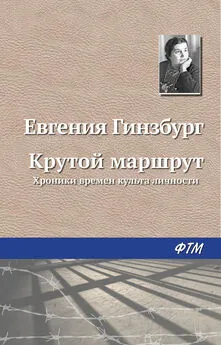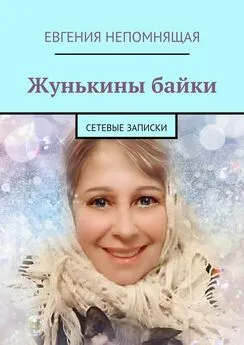Евгения Гинзбург - Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы
- Название:Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Возвращение
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:5-7157-0145-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгения Гинзбург - Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы краткое содержание
Доднесь тяготеет. Том 1. Записки вашей современницы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я всех спрашивала, не видел ли кто-нибудь тоненькую высокую девочку по имени Элла, и некоторые отвечали мне, что, кажется, такая девочка была. Значительно позже я поняла, что брали не всех детей репрессированных, а только тех, на которых были доносы за их вольные высказывания. Безо всякого же повода брали детей особо важных «преступников». Мне встретились дети Косиора, Артема Веселого, брата Бухарина, дочь Раковского, а также ряд детей крупных работников МГБ. К счастью, мой муж не принадлежал к числу «врагов народа» такого ранга, и, видимо, поэтому мои дети арестованы не были.
Я смотрела на своих товарищей по несчастью со щемящей жалостью, потому что знала, что эти люди осуждены на тот крестный путь, который я уже прошла. Они приводили доказательства своей невиновности, надеялись, что «разберутся», — а я знала, что все они обречены.
Вот сидит сорокалетняя, хорошо сохранившаяся женщина-литератор. Даже здесь она довольно элегантна, ходит в шелковой пижаме, укладывает волосы, спичкой подводит брови. Узнав, что я уже отбыла лагерь, она жадно спрашивает меня, есть ли в лагере возможность применить ее профессию: «Ну, есть ли там стенгазета, какая-то культурная работа?..» Бедная женщина! Я ясно вижу ее будущее: вот она, потеряв свою элегантность, неумело копает землю и гребет сено. Вот она в ватных брюках идет в строю, и соседки-уголовницы матерят ее за то, что она семенит и задерживает шаг…
Подходит старуха инженер. Авторитетно говорит:
— Не правда ли, техники используются по специальности? Ведь глупо было бы не использовать культурные силы?
Я себе представляю ее плетущей корзины или чистящей уборные и уклончиво говорю:
— Как когда.
Отводит меня в сторону Ольга Павловна Кантор. Она журналистка, старый член партии. В 1937 году уехала на год в деревню к умирающей матери, а потом волна арестов уже схлынула. Вернувшись, она застала опустошенной свою редакцию, но, поскольку ее не тронули, она только удивлялась, как могла быть настолько слепой, что не видела подрывной деятельности врагов.
С тех пор она жила в блаженной уверенности, что все правильно, воевала, получила орден Красного Знамени, чуть не погибла в окружении и, если бы случайно не спаслась, так и умерла бы со спокойной душой.
Но, выжив, она в 1949 году была арестована и пошла по всем этапам страшного пути, проторенного в 1937 году.
Она отводит меня в сторону:
— Вы вызываете во мне доверие… Вы прошли все это. Как вы думаете, можно написать, чтобы дошло до Сталина? Он, конечно, ничего не знает…
О, сколько писали Сталину! Сколько взывали к нему в последней надежде!
Если бы устроить выставку «писем Сталину», она бы произвела впечатление посильнее, чем выставка подарков, и вправила кое-кому мозги!
Но как сказать это малознакомому человеку, ведь она может сообщить следователю, и я вместо ссылки получу лагерь по статье 58–10 за агитацию против Сталина!
Но мне очень хочется сказать ей — такой человек, как она, достоин того, чтобы быть умнее и смотреть правде в глаза.
— Я больше вас уважаю товарища Сталина, — отвечаю я. — Как руководитель государства, он не может не знать того, что знают все. Вероятно, ему не закрыт доступ в тюрьму. Если ему что-то не ясно, он может зайти и поговорить с арестованными, посмотреть, как идут допросы. Бедствие слишком массово, тюрьмы не вмещают преступников. Нет, я слишком уважаю его, чтобы считать его дурачком, которого все обманывают. Это — его воля. Это — его ответственность. Это — его линия.
— Это ужасно! Тогда нельзя жить! С его именем мы умирали в боях. Потерять веру в него — это потерять веру в революцию…
— А может быть, он и революция — не одно и то же? — задаю я мефистофельский вопрос и умолкаю. Объяснять опасно. Можно только намекнуть наедине, чтобы в случае, если об этом разговоре будет доложено следователю, все отрицать и утверждать, что я говорила лишь, что все делается согласно воле Сталина.
В камеру входит худенькая девочка с косичками и тоненькими, как палочки, ножками. На вид ей лет шестнадцать-семнадцать. Девочка оглядывается и направляется в мою сторону. Я стремительно отворачиваюсь и иду прочь от нее. Нет, это не по моим нервам. Я не в силах смотреть в ее детские глаза, из которых непрерывно льются слезы. Целый день я ее избегаю, но вечером я обнаруживаю, что она устроилась на койке рядом со мной. Она лежит на койке, неумело курит и плачет. Худенькие цыплячьи плечи вздрагивают. Нельзя не заговорить с ней. Ее зовут Валя. Сегодня день ее рождения, ей двадцать лет. Несложная повесть:
— Мне было семь лет, когда арестовали отца. Мама была в таком отчаянии, что я и тетя сторожили ее, чтобы она не выбросилась из окна. Она всем делилась со мной, хотя мне было всего семь лет. Она без конца говорила о том, какой папа хороший, как его мучают, как страшно жить. Потом арестовали маму. Меня взяла тетя. Я должна была говорить, что мои папа и мама умерли. Наверное, меня запугала тетя, я не помню. Я только чувствовала, что, если узнают, что мои папа и мама в тюрьме, произойдет что-то ужасное. Может быть, меня будут бить, ругать, со мной никто не захочет играть. Мне всегда хотелось учиться лучше всех, быть лучше всех, тогда я «докажу». Что? Не знаю, но надо что-то доказать, чтобы не бояться всех, не чувствовать себя угнетенной. Я окончила десять классов. Поступила в институт. А потом я полюбила. У него тоже были репрессированы родители, он тоже скрывал это от всех, но друг с другом-то мы были откровенны. Он любил меня и восхищался мной, и все, что на мне лежало позором, стало достоинством в его глазах… Я любила. И теперь все, все кончено?!
Боже, как мне было жаль Валю! Как мне было жаль всех этих девочек, которые уже не верят в справедливость, не видят ни малейшего проблеска в черной бездне, куда их толкает непонятная им злая сила.
Постепенно моя койка превращается в девичий клуб. Мне очень страшно заработать вместо ссылки лагерь, но я не в силах удержаться и не утешать моих девочек. Я ругаю себя, даю себе слово быть сдержанной, а потом то одной, то другой говорю слова, которые, если узнает о них следователь, обеспечат мне десять лет лагеря.
— Безумные девочки, — говорю я, — вы считаете, что ваша жизнь кончена. Вам по двадцать лет. Через пять лет «его» не будет, а вам будет по двадцать пять лет, и вы будете жить и жить.
Девочки хором отвечают мне:
— Вы невероятный оптимист. Как вы не видите, что дело не в одной личности, а в системе? Уйдет он, останутся его соратники. Вы, что ли, будете выбирать новое правительство?
— Это противоестественно и длиться долго не может! — говорю я.
— Так вы и наши родители, вероятно, думали и в 1937 году, но с тех пор прошло двенадцать лет, а все длится!
Довод внешне убедителен, но я всем своим существом знаю, что так не будет. Знаю, потому что на воле я не встретила ни одного человека с ненадтреснутой верой в справедливость, с цельным мировоззрением. Знаю, потому что вижу разницу между обитателями этой камеры в 1936 году и набором 1949 года. Я помню, как у всех, и у меня в том числе, была вера в непогрешимость советской власти, советского суда, вера, которая заставляла иных оговаривать себя, потому что легче было обвинить себя, чем нашу советскую власть, а в особенности — Сталина, имя которого было синонимом революции, истины, справедливости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: