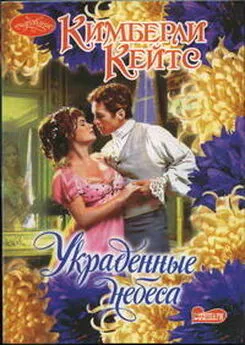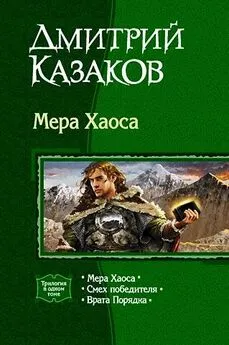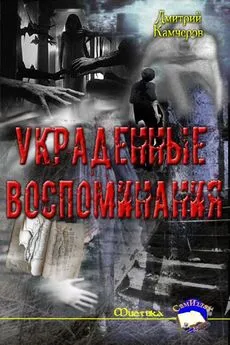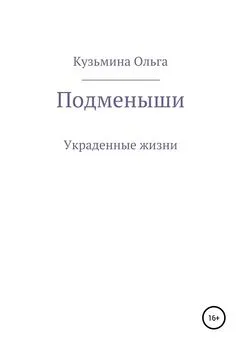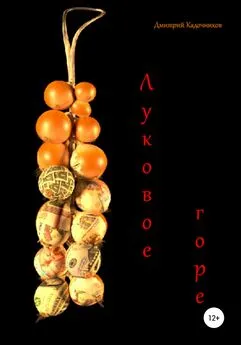Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия]
- Название:Украденные горы [Трилогия]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Советский писатель
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия] краткое содержание
В первой книге трилогии — романе «Украденные горы» — автор повествует о жизни западноукраинских крестьян-лемков накануне первой мировой войны и в ее начальный период, о сложном переплетении интересов, стремлений, взглядов разных слоев населения, стремящихся к национальной независимости в условиях Австро-Венгерской империи.
Во второй книге — «Подземные громы» — события развиваются в годы первой мировой войны, вплоть до Октябрьской революции. Действие романа развертывается в России, Галиции, Швейцарии, на полях сражений воюющих стран.
В третьей книге — «За тучами зори» — рассказывается о событиях Великой Октябрьской революции и гражданской войны, о борьбе крестьян-лемков за свое освобождение.
Украденные горы [Трилогия] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Караульный в серой шапке, высунувший голову в приоткрытую дверь, прервал Щербу на полуслове.
— Ожидается прибытие батальонного, — предупредил солдат. — Сейчас он в третьем взводе.
Неожиданный визит командира батальона был совсем нежелателен. Ротный смутился было: как быть теперь со Щербой? Ведь для него умный галичанин — уже не пленный, а дорогой, близкий по своим убеждениям человек, которого он ни при каких обстоятельствах не должен отдавать в руки Козюшевскому.
Существовал лишь один выход: отправить с короткой запиской Щербу к командиру полка.
Падалка на листке из блокнота карандашом написал:
«Ваше высокоблагородие!
Михайло Щерба не является нашим пленным. Он представитель Международного товарищества Красного Креста в Швейцарии. Галичанин, высокообразованный человек. Австрийцы привели его в свои окопы закованным в кандалы. Грех будет, если мы загоним этого человека в холодные бараки для пленных. Кстати, он перешел к нам, услышав песню моего денщика Остапа. Поговорите с ним, убедительно прошу вас. Сердце подскажет, что следует вам сделать.
С глубоким уважением к вам поручик А. Падалка.
21. I.1917».
Он поручил взводному Голубеву отдать записку полковнику Чекану.
Польщенный поручением, молодой, совсем желторотый прапорщик вытянулся, молодецки приложив руку к козырьку:
— Будет исполнено, ваше благородие!
Падалка подал Щербе шапку, потом шинель, перед тем незаметно сунул ему в один карман кусок сала, в другой — хлеб.
— Простите нас, дорогой товарищ, что так вышло, — сказал он, пожимая гостю руку. — Вам нельзя встречаться здесь с батальонным. Очень сомнительный тип. Если встретитесь когда с Юрковичем, передайте ему искренний привет. Возможно, мы еще с ним увидимся.
Щерба склонил голову, прижал ладонь к сердцу:
— Хотел бы и я с вами встретиться. Только не в этой яме.
Падалка остался один. Подошел к печке, погрел руки, нервно потер их. Крепким словом помянул Козюшевского и себя отругал за малодушие. Не по-людски как-то он обошелся с Щербой. Думал кожушок ему дать на дорогу да пару чистого теплого белья и обо всем позабыл, услышав про Козюшевского. Чтобы отвлечься и переключить свою мысль на другое, он вспомнил, что получил сегодня два письма от своих постоянных корреспондентов — Галины и Василя. Галина в своих письмах наставляла его «на путь истинный», а он, в свою очередь, вразумлял Василя.
На этот раз парень извещал, что на войну идти он раздумал, — оказывается, педагогический совет освободил его от попа и передал под опеку учителя Полетаева. Еще сообщал он, что учится без особого воодушевления, что приходится еженедельно ходить за «благонадежностью» к приставу, зато много читает…
Другое письмо от первой до последней строчки дышало жаркой любовью. Военные цензоры, через чьи руки проходили письма влюбленной пары, наверно, завидовали им и видели в их переписке лишь образец идеальной любви. «Эх, если бы хотя сотая доля горячих чувств действительно адресовалась мне, — . вздыхал всякий раз Андрей, — каким богатым и счастливым считал бы я себя!»
Такое же зашифрованное любовными признаниями письмо получил он и сегодня. Галина писала:
«…Любовь наша, Андрей, никогда, ни при каких обстоятельствах не погаснет, не испепелится, она все разгорается с новой, титанической силой, она бушует в нас. Верю, что не за горами время, когда мы, сердечный друг мой, встретимся…»
Падалка вчитывается в письмо, на память расшифровывает отдельные слова и обороты.
Неужели правда то, о чем она пишет? В промышленных центрах не прекращаются стачки, страну лихорадит, заводы без топлива, на железных дорогах страшная разруха, а в столице, под боком у царя, происходят голодные бунты солдаток, там громят булочные.
Конечно, этого надо было ожидать. Ленин прозорливо видел последствия войны. Что же дальше, Галина? Что ты посоветуешь лично мне? Каковы рекомендации или указания ЦК? Ты, должно быть, знаешь, что моя рота — лишь маленькая клеточка в огромном механизме действующей армии, которой командует сам царь. Верные его псы, вроде Козюшевского, неотступно следят за каждым моим шагом.
Падалка присел к столику, протянул руку к телефону, но передумал звонить: не было уверенности, что Щербу уже довели до полковника. Посмотрел на карманные часы. Ровно десять. До утра еще очень далеко. Он-то укрылся в тихой, прогретой яме. А каково солдатам всю ночь выстаивать под открытым небом? После оттепели и дождей январь еще может показать себя, да так, что, глядишь, подведет горемычных солдат! Отвратное месиво под ногами смерзнется, задубеет мокрая шинель на солдатских плечах. Написать про это Галине? Пусть бы она донесла солдатскую тоску по семье, по домашнему теплу туда, в нейтральную Швейцарию…
В землянку вернулись Голубев и Остап. Падалка удивился: едва ли могли они так быстро управиться… Когда же прапорщик положил на столик перед ротным его же записку, у Падалки тревожно защемило сердце, колючий холодок пробежал по всему его телу. Подумалось самое страшное: Козюшевский, этот выродок, задержал Щербу — благородного рыцаря революции — и теперь чинит над ним суд и расправу.
— В чем дело, прапорщик Голубев? Докладывайте.
— Все в порядке, господин поручик! — прищелкнув каблуками фасонистых сапог, ответил прапорщик. — Ваш друг уже на австрийской стороне.
От сердца у Падалки отлегло. Черная тень Козюшевского больше не маячила перед глазами. Он подумал: иначе и не мог поступить революционер Щерба. И листовку он не зря припрятал. С ней он вернулся к своим.
Задребезжал полевой телефон. Поручик услышал в трубке знакомый голос полковника:
— Падалка? Вас обрадует такая новость? По моей рекомендации вашу роту, как образцовую в дивизии, генерал Осипов посылает на укрепление столичного гарнизона. В двенадцать ноль-ноль вас заменит в окопах другая воинская часть. Готовьтесь, Андрей Кириллович, в дальний путь. Завтра вам подадут вагоны.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!
— Перед отправлением мы еще побеседуем с вами. Зайдете ко мне. А сейчас — объявите ротные сборы.
— Слушаюсь, ваше высокоблагородие!
Царь Николай, невысокий, рыжеватый человек, с серыми невыразительными глазами и холеной бородкой, в полковничьем мундире, собственноручно составил телеграмму командующему Петроградским военным округом генералу Хабалову: «Повелеваю завтра же пресечь в столице беспорядки». Подписался: «Николай II». Дописал слева: «Ставка Верховного Главнокомандующего. 25 февраля 1917 г.»
Перед тем как отдать телеграмму адъютанту, пробежал по написанному взглядом, призадумался. Достаточно ли этих слов? «Повелеваю…» Слово это всегда звучало величественно и по-праздничному торжественно в его манифестах и обращениях к верноподданным Российской империи. Прозвучит ли оно должным образом в момент, когда его верноподданные, забыв бога, забыли и о своих обязанностях перед монархом? «Повелеваю…» Да, Хабалов знает, что это значит. На Хабалова можно положиться: он наведет порядок в столице. Сама Александра Федоровна рекомендовала его как человека неукротимой энергии, а уж Александра Федоровна знает толк в людях. В распоряжении Хабалова солидный гарнизон. В столице расквартированы отборнейшие части, стоит несколько казачьих полков, казачество неизменно было надежной опорой российского трона. Пусть же Хабалов действует во имя господа бога и Своего императора. Царь отдал бумагу адъютанту и протянул руку к фотоаппарату — излюбленное его занятие в ставке в ту пору. Он бывал счастлив, когда из лаборатории возвращали ему проявленные, удачно сделанные им снимки, и тешился мыслью, что из него мог бы получиться неплохой фотограф. В иные минуты, когда он осмеливался противостоять требованиям жены благосклоннее и покладистей взирать на деятельность при дворе святого старца Распутина, она шептала ему на ухо: «Разве ты император? Разве ты самодержец, Ника? Тебе фотографом, не царем быть. И фотографом не придворным, а базарным, базарным!..» — «Ты права, Алиса. Там, во дворце, я обижался на тебя, называл дурехой, даже позволил себе назвать тебя наложницей Распутина, а здесь, в ставке, где я принял командование всеми армиями всех фронтов России, я убедился, что ты, Александра Федоровна, была права. Верховное командование — до чего же скучна эта обязанность, за меня ее недурно исполняют мои генералы; зато фотографировать, скажу я тебе, да еще в солнечную погоду, как нынче, — это истинное творчество, настоящее наслаждение, в конце концов, это богом данное призвание, не обязывающее выпускать манифесты или расстреливать своих непокорных подданных».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитро Бедзык - Украденные горы [Трилогия]](/books/1094072/dmitro-bedzyk-ukradennye-gory-trilogiya.webp)