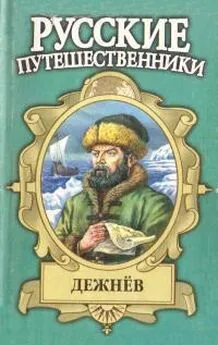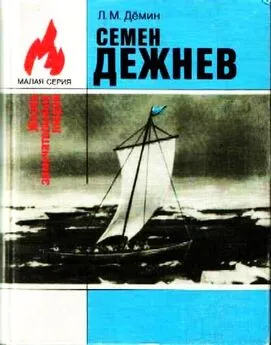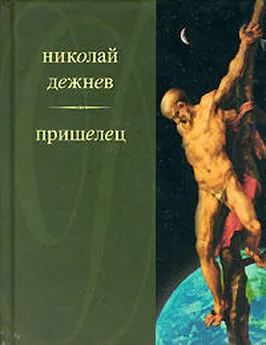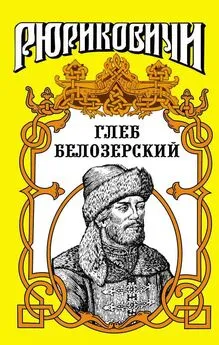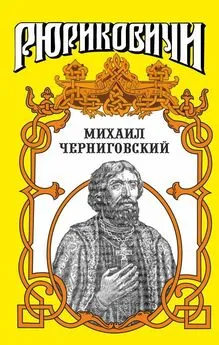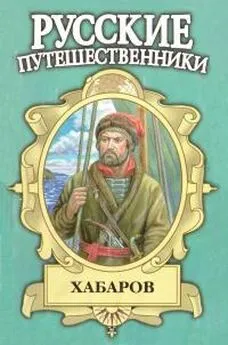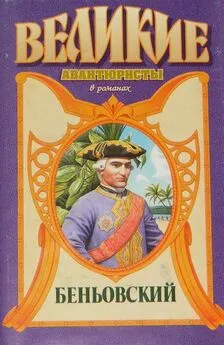Лев Демин - Семен Дежнев — первопроходец
- Название:Семен Дежнев — первопроходец
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, Астрель
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-17-012768-5, 5-271-04036-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Демин - Семен Дежнев — первопроходец краткое содержание
Семен Дежнев — первопроходец - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Шли на восток коренастые плечистые бородачи с лицами, опалёнными зимними стужами, летним зноем, морскими ветрами. Шли навстречу открытиям и подвигам.
Стиснутая горными склонами лощина спустилась в речную долину. Ельник расступился, и открылась река, довольно широкая и полноводная. Это была Тура. Вскоре показались строения Верхотурья, значительного по тем временам города с деревянным острогом. На фоне простых изб выделялись воеводские хоромы, храмы, гарнизонная изба, торговые ряды.
Верхотурский воевода, не старый ещё человек в длиннополом суконном кафтане, отделанном лисьим мехом, встречал колонну прибывших. Сказал сотнику приветливо:
— С благополучным прибытием вас на сибирскую землю.
Сотник в ответ поклонился воеводе в пояс. А воевода продолжал:
— Дальнейший ваш путь лежит на Тобольск, главный город всея Сибири. Поплывёте широкими реками, Турой, Тоболом. Там, где Тобол впадает в Иртыш, и Тобольск стоит.
На реке у причала вытянулась вереница баркасов, дощаников с мачтами, на которых белели приспущенные паруса. Все суда были готовы принять грузы и новых государевых служилых людей. Воевода ждал прибытия колонны.
Воевода был немногословен. Пригласил сотника к себе отобедать. Распорядился, чтобы и возчиков, отбывавших трудовую повинность, накормили и отпустили в обратный путь. Теперь их повозками мог воспользоваться купеческий караван с грузом пушнины, шкурками соболя, горностая, лисицы, песца. Купцы с ценной добычей возвращались в Великий Устюг. Один из купцов рассчитывал перепродать шкурки иноземцам в Архангельске с немалой выгодой для себя. Другой собирался отправляться дальше — в Ярославль и в Москву.
В Верхотурье была учреждена таможня. Прибывающих из европейской России на сибирскую службу таможенные подьячие подвергали лишь беглому досмотру. Скорее для проформы. Старший подьячий просмотрел реестр, который протянул ему Корней Кольчугин, и не стал его дотошно вычитывать. Только произнёс не то осуждающе, не то насмешливо:
— Маловато людишек-то. Всего-то полтораста душ.
— Разве это мало — полтораста? — возразил ему Корней.
— Не то слово — мало... Капля в море. Сибирь — это прорва бездонная, ненасытная. Тыщу мужиков пришлют — всё будет мало.
— Слышал, по зимнику прибудет к вам ещё партия казаков. Устюжане будто бы, мужики из Тотьмы, Вологды.
— Дай-то Бог.
Отъезжавших за Каменный пояс таможенники тормошили тщательно. Вскрывали тюки со шкурками, рылись в узлах и баулах — нет ли драгоценных камней или золотишка. В зависимости от объёма и ценности груза определяли размеры пошлины. Купцы ворчали, но платили. Доход от взимания пошлины шёл в казну, и определённая его доля шла на уплату жалованья сибирским чиновным людям.
Прибывающих обступили местные казаки, стрельцы, подьячие, корабельные плотники, мастерившие дощаники, лодьи, лодки.
— Устюжане есть среди вас?
— А вологодские?
— Холмогорцы есть?
— Мужики с Ваги...
— Ас Пинеги есть кто-нибудь?
— Я с Пинеги, — отозвался Дежнёв. Спрашивал его рослый мужик в кафтане, подпоясанном кожаным ремнём, какие обычно носят стрельцы. На боку у него на перевязи болталась кривая сабля.
— Чьих будешь? — спросил Семёна стрелец.
— Дежнёв.
— Слыхал о таких. На Пинеге много Дежнёвых. А я Стригин Елизар.
— Тоже что-то слыхивал о Стригиных.
— Может, и свойственниками приходимся, ежели покопаться. А знаешь, почему наш род Стригиными зовут?
— Объясни, почему.
— А вот послушай. Дед или прадед — точно не знаю — ловко овец стриг и других пинежан учил. Для стрижки ножницы специальные придумал.
— Давно служишь в Сибири?
— Давненько. Двенадцатый год уже. Начинал службу простым казаком. Присмотрелся ко мне воевода, отметил моё усердие и взял в своё стрелецкое войско. Недавно повёрстан в десятники. Не велик чин, всё же начальник.
— Семьёй-то обзавёлся, земляк?
— Как же! Дочку здешнего дьякона высватал. Деток у нас уже двое — сынок, старшенький, и доченька.
Воевода распорядился дать вновь прибывшим двухдневный отдых. Елизар пригласил Дежнёва к себе в гости. Отыскался земляк и у Алексы Холмогорова, который увёл его к себе.
Жил Стригин с семьёй в добротной избе, срубленной из лиственницы, тогда как холостые стрельцы и казаки обитали в гарнизонной избе. У стрельцов была половина почище и попросторнее, у казаков поплоше. Казакам и жалованье полагалось поменьше.
Пришёл и тесть Стригина дьякон Варфоломей, служивший прежде в Соликамске. Хозяйка потрудилась на славу — настряпала пельменей с бараниной и с судаками. А Елизар принёс из погреба жбан рябиновой настойки, крепкой и горькой.
Стрелец Стригин расспрашивал Дежнёва о житье на Пинеге, называл фамилии знакомых пинежан. Некоторые из них были знакомы и Семёну. Услышал он и фамилию Двинянинова. Неохотно ответил на вопрос хозяина — знает ли такого:
— Тиун наш волостной. Богатый и скупердяй.
— А по-моему, пёс алчный, — добавил Стригин.
Как видно, Двинянинов в своё время насолил и будущему стрельцу, и поэтому говорил Стригин о нём с неприязнью. При упоминании имени пинежского тиуна что-то больно кольнуло в груди Семёна. Он подумал с горечью об Ираиде. Страдает, наверное, бедная. Жива ли? Не наложила ли на себя руки — не дай-то Бог. Чтобы отогнать горькие мысли, он постарался перевести разговор в другое русло. Стал расспрашивать хозяев про сибирское житьё-бытьё. Вмешался в разговор дьякон, отец Варфоломей:
— Вот незадача... Русских девиц в Сибири не хватает. Прибывают к нам обычно из-за Каменного пояса холостые. А природа-то требует своё. Семейный очаг создать каждому мужику хочется. Вот и женятся русские на остячках, вогулках, татарках.
— И мирно живут такие семьи? — поинтересовался Семён Иванович.
— А почему бы не жить мирно? Обычно перед венчанием мы склоняем невесту принять святое крещение по нашему православному обряду, даём ей наше православное имя. Выкресты по нашему понятию уже не бусурмане. Перед Богом-то все равны. Многие остяки, вогулы по своей охоте становятся православными, посещают Божьи храмы.
— Прошу, дорогой гостюшка, батюшка... — перебил тестя Стригин. — Откушайте наливки.
— Мне никак нельзя, зятёк, — ответил дьякон. — Сегодня вечерняя служба. Я, пожалуй, только пригублю.
Далее отец Варфоломей отозвался о местных коренных жителях как людях трудолюбивых, незлобливых. Если с ними обходиться по-доброму, с лаской, то и они увидят в русских добрых друзей. От русских они охотно воспринимают всё полезное, например земледелие, разные ремесла, ковку железа. Даже избы начинают строить на русский лад. К сожалению, некоторые корыстные купцы и чиновные люди лихоимствуют, обижают туземных людей поборами, а то и пограбить могут. Этим пользуются татарские мурзы, которые после разгрома Кучумова царства увели свои орды на юг, в киргизские степи. Они подстрекают остяцких, вогульских князцов к нападениям на русские отряды, русские селения, на грабёж купеческих караванов. Такое случается нечасто, но всё же случается. Вот и приходится ставить остроги с гарнизонами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: