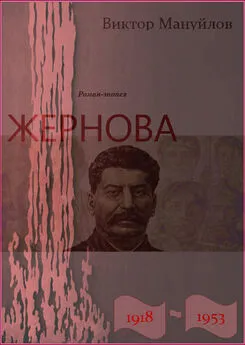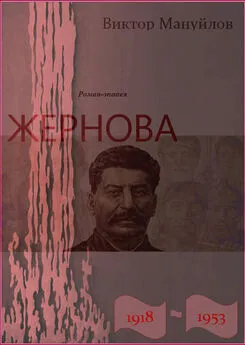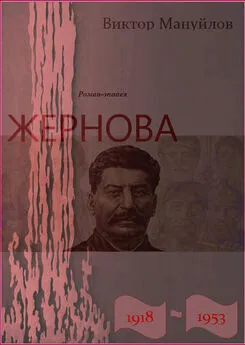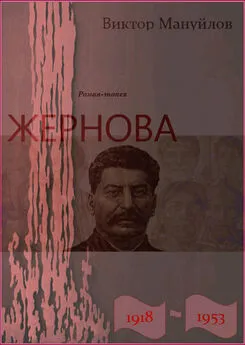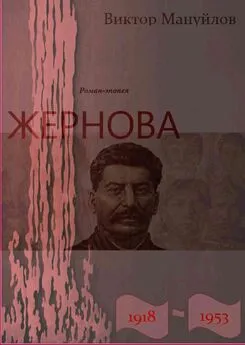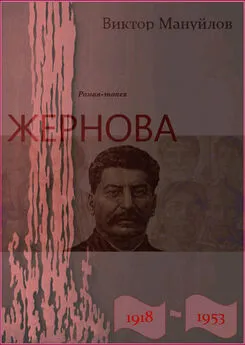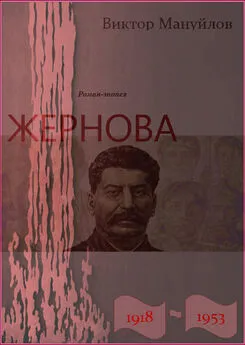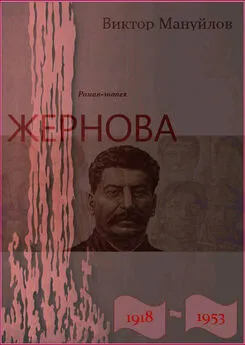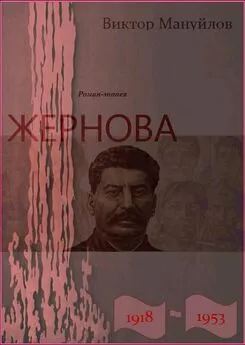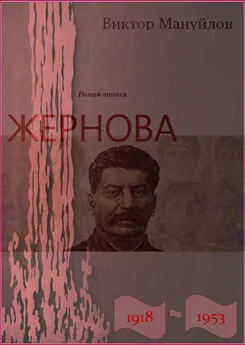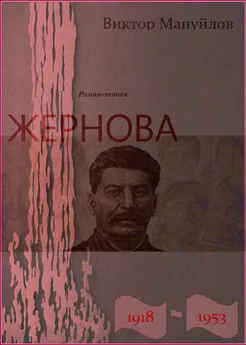Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Клетка
- Название:Жернова. 1918–1953. Клетка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Мануйлов - Жернова. 1918–1953. Клетка краткое содержание
И все-таки звук сигнала об окончании работы достиг уха людей, люди разогнулись, выпустили из рук лопаты и кайла — не догрузив, не докопав, не вынув лопат из отвалов породы, словно руки их сразу же ослабели и потеряли способность к работе. Разогнувшись и освободившись от ненужного, люди потянулись к выходу из забоя…"
Жернова. 1918–1953. Клетка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Из бельмастого глаза его текли слезы, но он не вытирал их; руки его, тонкие, с длинными пальцами, испачканными сажей, нервно теребили воротник не застегнутой телогрейки, и густой, черный с сединой волос на его груди казался шкурой какого-то животного, надетой на голое тело.
Все смотрели на него с любопытством и недоверием, будто этот человек не способен не только мыслить, но и говорить человеческим голосом.
А он заговорил, хотя и с сильным акцентом, но очень по-русски правильно:
— Я так думаю: лучше подохнуть в тайге! Да! Чем в лагере. Пусть мы никуда нэ придем, зато умрем свободными людьми. Я, Георгий Гоглидзе, пойду с Плошкиным. Я все сказал. — И, гордо оглядев всех, тихо опустился на пол.
— Вот так-то вот! — довольно потер руки Плошкин. — Вот энто по-нашему, хоть он и шашлычник, хоть его Сталин всех нас и понасаживал на вертела.
— Сталин — это нэ мой Сталин! — запальчиво воскликнул Гоглидзе, снова вскакивая на ноги и резко выбрасывая вперед руку. — Шота Руставели — это мой, царица Тамар — тоже моя, Георгий Саакадзе — тоже мой! Сталин — из грузинов. Да! Но он нэ грузин! Он — нэнормальный!
— А-аа, один черт! — отмахнулся Плошкин. — Что грузинцы, что жиды, что другие какие, — все русскому человеку колода на шее. Энто царям своего народу мало, так они других понахапали, а народу зачем другой народ? То-то и оно! Кажный народ должон жить на своей земле, середь своих сородичей и единоверцев, тогда не случится никакой смуты, — убежденно заключил Плошкин и, надвинувшись на стол широкой грудью, продолжил бригадирским рыком: — Ну, все! Помитинговали и будя! Теперь слушайте, что я скажу. В лагерь нам возврата нету. Никаких пересмотров делов и прощений нам не будет, потому как мы властям не подходим. Для них мы все одного поля ягоды: что кадет, что большевик, что русский, что грузинец или жид, что крестьянин или даже рабочий. Все мы одним аршином меряны, одной веревкой вязаны. Не для того властя нас от мира отрезали, чтоб сызнова к миру приколачивать. Нас всех тута, в рудниках, заживо похоронили и списали. Так что вертаться нам нет никаких смыслов. Ну а кто захочет уйтить, тому сверну голову самолично и без всяких рассуждениев. Здесь моя сила, моя власть, здесь я вам и партия, и Сталин, и прокурор. Так-то вот, господа-товарищи.
Откинулся к стене, усмехнулся, продолжил почти что весело:
— На всю подготовку к дороге кладу четыре дня. Ешьте, пейте, отсыпайтесь, но и про дела не забывайте. Будем плести туеса из бересты, солить икру и рыбу. Апосля пойдем. Такая вот моя диспозиция. А счас, значит, так: Пакус с Каменским и с Георгием топят каменку… Да чтоб тут, в избе, все вычистили до бела: не в хлеву, чай, живем!.. Вечером — баня! А мы втроем пойдем за рыбой и берестой… Хоть мы с вами как бы и на воле, а с бригадирства я себя не сымаю. Нынче я знаю, куды итить и что делать. По-моему и будет.
Глава 8
Едва за Плошкиным, Ерофеевым и Дедыко закрылась дверь избушки, Каменский, Пакус и Гоглидзе, не глядя друг на друга и не сговариваясь, что кому делать, принялись выполнять бригадирские распоряжения. В неволе они привыкли к повиновению точно так же, как привыкли при всяком удобном случае отлынивать от любой работы, если над ними не стоят с палкой. Однако сегодня все трое старались изо всех сил.
Они затопили каменку дровами, предусмотрительно припасенными еще в прошлом году, наносили воды в бочку и в ведра, сгребли в кучу весь мусор и побросали в огонь, потому что Плошкин строго-настрого запретил им выбрасывать из избы даже рыбью чешую и кости, чтоб не оставлять никаких следов; до белизны выскребли стол и лавки, помыли пол и почистили закопченные оконца.
Потом спустились к ручью, прошли по нему метров сто, свернули в небольшой распадок и там наломали веток багульника и пихты — для кипячения в воде к предстоящей нынешним вечером бане: Плошкин заверил, что если помыться таким отваром, то враз исчезнут все болячки и чирьи.
То Пакус, то Каменский, то Гоглидзе время от времени отходили из приличия к ручью и присаживались над бегущей водой по крайней нужде: после жирной рыбы всех одолел понос. Но Плошкин сказал, что это временно, дня на два, на три, а потом, когда попривыкнут к пище, все наладится, и они безоговорочно этому поверили, потому что все, что они делали по приказанию своего бригадира, не только подтверждало его над ними неограниченную власть, но было наполнено целесообразностью, над очевидностью которой не приходилось даже задумываться. Тем более что тюрьмы и лагеря отучили их задумываться над чем бы то ни было: мыслительный процесс потерял свое значение, к тому же требовал сил. Наконец, они разучились желать и чувствовать: все желания и чувства подавило одно желание — есть, одно чувство — чувство голода и усталости.
Сейчас пищи было много. Каждый мог взять со стола кусок лососины, мог выпить кружку жирного и пахучего бульона, и они пользовались этой возможностью. Но не потому, что испытывали голод, а потому, что была пища, которую нельзя не есть. В лагере они всегда съедали все, что им доставалось, не оставляя на потом, потому что пищу могли украсть или отнять, потому что, наконец, можно внезапно умереть, так и не съев свой последний кусок.
И Каменский, и Пакус, и Гоглидзе двигались медленно, часто присаживаясь и отдыхая, иногда ложась, но все-таки двигались и двигались, делая то одно, то другое, скорее, не столько из боязни наказания — какое мог придумать им наказание бригадир, если бы они что-то не успели сделать? — а из чувства неловкости перед ушедшими на промысел, неловкости, которая была из того мира, где жили родные и близкие им люди, где они сами были свободны, где было много еды и красивых женщин, где не нужно было работать до изнеможения, — неловкости, ненужной и вредной в их недавней жизни.
За почти целый день каждый из них произнес едва ли десяток слов. Тут, во-первых, властвовала над ними неприязнь друг к другу, существовавшая бог знает с каких времен и усиленная утренним спором; во-вторых, говорить вроде было некогда.
Между тем каждый из них затевал иногда внутренний спор со своим воображаемым противником, но, произнеся мысленно несколько слов, тут же терял нить рассуждения и отвлекался на что-то вещественное: на веник ли, на топор, на дрова или рыбу. Да мало ли на что! Их просто поглотила мелочная насущность, она казалась им столь важной, что все усилия их истощенного мозга были направлены на нее — на исполнение этой насущности, и когда что-то удавалось завершить, они испытывали удовлетворение, давно ими позабытое.
И все же тревога держалась в них, сковывала их, утомляла больше самой тяжелой работы, искала выхода. Меньше эта тревога обнаруживалась у Гоглидзе, больше — у Каменского, и совсем не была видна на ничего не выражающем лобастом лице Пакуса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: