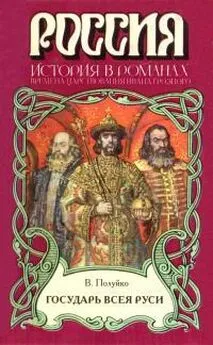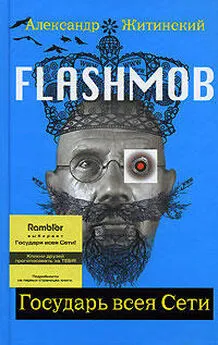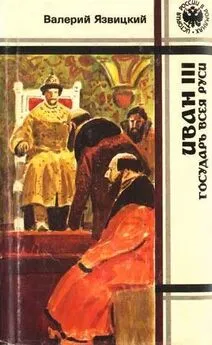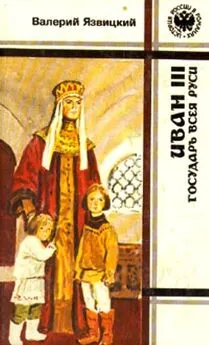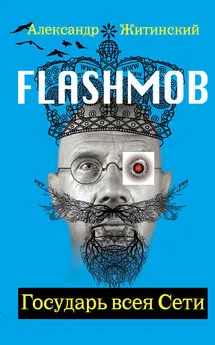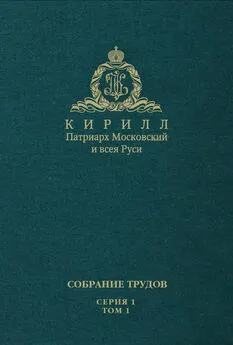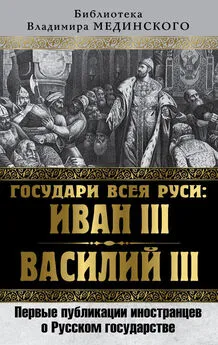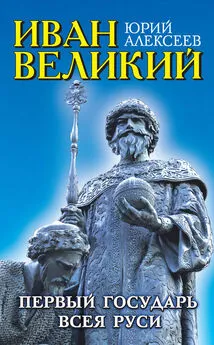Валерий Полуйко - Государь всея Руси
- Название:Государь всея Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0108-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Полуйко - Государь всея Руси краткое содержание
Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться?
Если он не всех превзошёл в мучительстве, то
они превзошли всех в терпении, ибо считали
власть Государеву властию Божественною
и всякое сопротивление беззаконием…»
Н.М. Карамзин
Новый роман современного писателя В. В. Полуйко представляет собой широкое историческое полотно, рисующее Москву 60-х годов XVI в. — времени царствования Ивана Грозного.
Государь всея Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Государь, прикоснись ко мне! Молю, прикоснись и отведи от меня все грядущие напасти, ибо чую, чую и верую, ты — святой! Верую, государь!
— Вот и причислен я к лику святых, — усмехнувшись, сказал Иван с лёгкой иронией, но ирония эта была лишь прикрытием: столь благоговейная вспышка Васькиной души затронула и его душу. — Василием... Как там тебя по отчеству?
— По отчеству? — с юродивой жалобностью переспросил Васька, словно не знал, что это такое. Руки его, сложенные ладонью к ладони, расслабленно оползли вниз — радостный страх окатил его, и он робко пролепетал: — Василий Григо... — Кадык у него дёрнулся от нервного глотка, и он с трудом докончил: — ...рьев.
— ...Вич! — милостиво дополнил Иван, отчего Ваську блаженно скорчило, будто сквозь него прошла сладострастная судорога. — Василий Григорьевич Грязной-Ильин, архипростолюдин российский, лестью своей неискушённой причислил меня, худого, к лику святых. Такое надобно отпраздновать! — с шутливой торжественностью и вместе с тем как бы напугавшись этой торжественности, заключил он и направился к двери.
— Да я не лестью... Не лестью, государь! — запричитал Васька и на коленях пополз за ним следом. — Я чую и верую! Ты святой! Святой, государь!
— Не юродствуй, Василий! — обернулся к нему Иван, а в голосе за нарочитой строгостью прозвучали восторг и страх, слившиеся воедино. Он приостановился перед дверью, ожидая, пока замешкавшийся Федька отворит её, и повторил построже: — Не юродствуй!
Но это был не запрет, не приказ, это была просьба. Он лишь боялся согласиться с тем, что услышал, — ещё боялся, — но вовсе не отвергал этого. В нём и в самом, должно быть, коренился росток этой покуда ещё пугающей его мысли, подтверждение которой он, наверное, искал — если искал! — в чём-то особенном, высоком, в делах своих и помыслах, не подозревая, что ей, этой мысли, для того чтобы стать убеждением и окончательно утвердиться в нём, совсем не нужны особые доказательства — его высокие помыслы и дела, его горение, самоотверженность, — ей достаточно лишь проявиться вне его, отразившись в ком-то, как в зеркале, и уже это отражение, наложившись на его собственное, внутреннее, намертво впечатается в сознание.
Он не подозревал этого, и тем большее впечатление произвела на него Васькина благоговейность. Восторг и страх, слившиеся в его голосе, были лишь маленькой толикой того, что не вырвалось наружу, осталось в нём, но они, эти восторг и страх, как бы двумя лучами высвечивали самое главное, самое сердцевинное, ибо восторг означал безудержность, безграничность его притязаний, а страх — лишь последний рубеж, который он ещё не осмеливался перейти, удерживаемый, увы, уже не разумом, не верой, а только суеверием.
Федька отворил перед ним дверь, и он вышел в предпокои, где его встретили дружным согбенней четыре подобострастные спины, которым, между прочим, в знак особой милости было дозволено не гнуться перед ним в поклоне, но воспользоваться этой милостью ни одна из этих спин никогда даже и не пыталась. Иван и сам не больно часто вспоминал о своём пожаловании и обычно равнодушно принимал их поклоны, лишь иногда, как сейчас, в порыве нахлынувшего настроения, напоминал им, что на ногах у него нету глаз и ему трудно распознать, кто из них кто, коли они втыкаются рожеями в пол.
— Малюта, тебя токмо и признаю по твоим свирепым ушам. Торчат они у тебя, точно иклы [231]у вепря.
— А что ж, государь, делать-то? — распрямился Малюта. — Не подвязывать же их.
Вслед за Малютой распрямились и остальные — Темрюк, Зайцев, Вяземский — и принялись подсмеиваться над его ушами. Малюта, не выносивший никакого дурнотрёпа, особенно же того, которым потужались тешить царёв слух, стал просить Ивана унять их, но Иван, наоборот, ещё подзадорил:
— Нынче веселие не возбраняется! Нынче у нас престольный праздник в честь нового святого! Велю я к трапезе подать вина — будем праздничать!
— Вот славно! — просиял Зайцев. — То-то мне намедни мощи снились!
— То тебе снились обглоданные собаками кости, — засмеялся Иван, явно испытывавший потребность хоть в шутку поговорить об этом. — Во сей новый святой ещё во плоти и крови.
— Да нешто же так быват, чтоб во плоти — и святой? — неподдельно изумился Малюта. Его правоверная, выправленная по церковному аршину душа не могла принять такого, даже несмотря на то, что это принимал царь. — Святость открывается через мощи.
— А в мощи откудова она проникает? Не из плоти ли и крови? — как будто защищая что-то личное, напористо и умно возразил ему Иван, чем сразу поставил его в тупик.
— Того я не знаю, — буркнул Малюта, потупляясь. — Токмо вживе святых я ещё не зрел.
— Так узри! — в голосе Ивана опять зазвучала шутливая лёгкость, но будь у Малюты или у Зайцева, у Вяземского, у Темрюка чутьё потоньше, они б почуяли, что это вовсе не шутка, а лишь стремление прикрыться ею. — Сё аз причислен к лику святых! И соделал сие... — он выдержал ехидно-ликующую паузу, — сам Василий Грязной! Восе он, зижитель [232]святых!
Васька уже поднялся с колен и теперь стоял в проёме двери скисший, растерянный, явно не зная, что ему делать: то ли начинать веселиться со всеми вместе, раз всё клонится к этому, и смириться, что так и не смог убедить Ивана в своей искренности, то ли покуда воздержаться, повременить, не сдаваться столь быстро, чтоб не наделать худшего — убедить в неискренности. Когда Иван указал на него, он вновь умоляюще сложил на груди руки, подтверждая этим жестом то, что говорил словами, и весь превратился в скорбь. Эта наивная, непритворная скорбь делала его иконно-благообразным, и виделось воочию при взгляде на него, как действительно много ликов у дьявола.
Теперь приспело время Федькиного торжества, и он с наслаждением в злорадстве выпячивал на Ваську свою ухмыльно-презрительную рожу. Не отстали от Федьки и остальные: все видели в этом лишь шутку, забаву, а в Ваське — шута горохового, посмешище. Так как же было не посмеяться над ним, не позубоскалить? Смеялись, зубоскалили, и вряд ли, конечно, кто-либо догадывался, какую стихию затронул в Иване этот гороховый шут и какие чувства на самом деле скрывал Иван за вальяжной шутейностью, подсмеиваясь над ним.
Может, и лучше, что не догадывались, иначе то наивное, искреннее, бездумное поклонение, которым они сейчас окружали его и которое ещё более, чем ему, было нужно им самим, потому что через поклонение ему, через свою безраздельную слитность с ним они обретали нечто высшее и в себе самих, какими-то таинственными, непостижимыми связями соединяясь, сживляясь с его величием. И вот это поклонение, радостное, благоговейное, заменявшее им святое причастие и пробуждавшее в них особый дух — дух одержимого, грозного холопства, — это поклонение, догадайся они сейчас об истинных чувствах Ивана, очень скоро переродилось бы в обыкновенную лесть и угодничество, искренность и бескорыстие подменились бы расчётом, обросли лукавством, ложью, и, обретя новых ласкателей и подлипал, он потерял бы истовых и верных служак, которые сейчас были ему нужней всего.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: