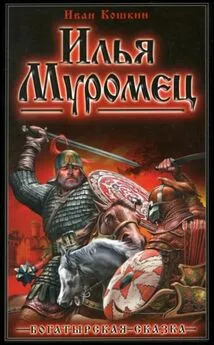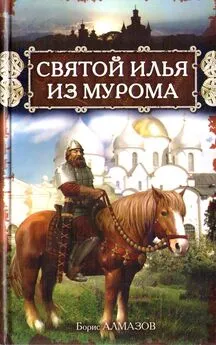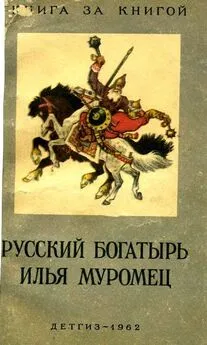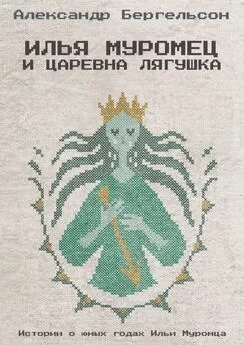Борис Алмазов - Илья Муромец. Святой богатырь
- Название:Илья Муромец. Святой богатырь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо: Яуза
- Год:2017
- Город:М.
- ISBN:978-5-04-089357-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Алмазов - Илья Муромец. Святой богатырь краткое содержание
Тридцать лет и три года просидел Илья Муромец, не чувствуя ни рук ни ног, пока не получил чудесное исцеление и невероятную силу от странствующих старцев. Отныне добрый молодец занимает достойное место в дружине Владимира Мономаха. Поединки с Соловьем-разбойником и Идолищем Поганым, участие в кровопролитных боях против татар и кочевников в веках прославили чудо-богатыря.
Увлекательный, основанный на реальных исторических документах приключенческий боевик о славном русском богатыре, ставшем главным символом безмерной отваги и непревзойденной воинской доблести.
Илья Муромец. Святой богатырь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
После ухода варягов языческая партия Киева потерпела сокрушительное поражение. Мало того что христиане сразу оказались и в княжестве, и в городе самой сплоченной группой, в Киеве их было большинство. Они имели разветвленные связи на всех уровнях с Византией, а последние годы Владимир, пришедший к власти с помощью варяжских мечей, проводил политику, начатую еще Ольгой и продолженную Ярополком, на уничтожение Хазарии и сближение с Византией.
И очень чуткий политик, Владимир был прирожденным князем, то есть всегда точно знал, в чем нуждаются его подданные и чего желает, может быть, еще недостаточно громко высказываемое общественное мнение. Именно это позволяло ему оставаться у власти и даже быть любимым современниками. Человек жестокий, вспыльчивый, злопамятный, мстительный, в личной жизни лживый и развратный, он был прекрасным властителем государства и скорее орудием мировой истории, чем князем-самодуром, которых было на Руси предостаточно. Все, что касалось политики, при всей неверности и коварстве Владимира, проводилось в интересах народа, а глас народа он слышать умел. Он сам был его частью, происхождение от князя и рабыни делало его любимым и своим для всех слоев общества, а происхождение от варяга и славянки открывало дорогу и в разные общины… Но только до той поры, пока его реформы не противоречили ходу исторического развития и всеобщему желанию страны, что, наверное, одно и то же.
Совершив ошибочный ход с введением культа Перуна, он никогда не возвращался к нему, словно о нем позабыл. Совершенно уверившись, что страна нуждается в православии, в вере от Византии, князь все же обставил это не как собственное решение, а как избрание веры народом…
Сложно судить, нарочно это было сделано или так вышло само по себе. Очевидно, что вера принималась очень осторожно. Несколько групп послов были отправлены в Рим и в Византию, чтобы объективно сравнить различные стороны обрядности. Но это была скорее демонстрация выбора, чем действительный выбор. Князь нуждался в публичном доказательстве своей правоты. Он лишний раз убедился, что при выборе веры римской попадет в прямую зависимость от папы, как попала в такую зависимость Польша. Князь уже раз угодил в кровавую распрю со своими подданными, которые не приняли понятный им культ Перуна, а уж богослужение на чужом, непонятном языке не примут наверняка. Ошибка в выборе веры грозила гражданской войной и полным распадом государства, который был бы пострашнее распада общества в Хазарин.
Поэтому среди горожан и жителей других земель, подвластных Киеву, широко рассказывалось о поездках посольств. Результаты поездок обсуждались всем населением княжества. Умело и неторопливо князь создавал общественное мнение и направлял его в нужное русло. Киевские православные христиане, получив возможность открытого проповедничества, готовили город к принятию православия, рассказывая о том, как послы киевские, побывавшие в Риме, преисполнились уважением к христианской вере и власти папы, а приехав в Византию, не могли оторваться от сказочной красоты богослужения и, переходя из храма в храм, откладывая и задерживая отъезд, продлевали наслаждение пребывания в храмах православных, «ибо забыли мы, где мы, на земле или на небе»…
Однако были интересы политики, и был сам князь… Который, как всякий князь, любой власти над собою, даже власти Бога, сопротивлялся. Он сам хотел безраздельно владеть судьбами и душами своих подданных, и ему чудился перехват его княжеской власти властью хитрых византийцев, поэтому, нарушив все договоры, переступя через фактически уже принятое большинством его правительства решение креститься в веру православную, он нападает на византийские колонии в Крыму.
Это была попытка отказаться от платы за кредит, выданный византийцами на хазарский поход, это была демонстрация силы и, может быть, поход за добычей, потому что крымские города славились богатством. А князь очень нуждался в средствах – экономика его страны была не в состоянии содержать ту огромную дружину, без которой была невозможна победа над Хазарией. А распустить ее он не решался, да и не мог. Поэтому поход был неизбежен. И снова, как только просохла степь, пошли войска на юг. Только теперь они шли не в Хазарию, где в Тьмутаракани вместе с крепким славянским гарнизоном княжил шестилетний Мстислав Владимирович, сын Рогнеды полоцкой, а в Крым – на византийские колонии, на греческие города.
Илья, оправившись от ран, все еще не покидал Киев. Странные вещи бросались ему в глаза: слишком много воевод почему-то оставались дома и в поход не пошли. Если во время похода на Хазарию Киев не мог вместить всех добровольцев, желавших идти сражаться с вековым врагом, то теперь их совсем не было, а из дружины, под любым предлогом, храбры возвращались в Киев чуть не целыми отрядами со своими воеводами во главе. Князь требовал подкреплений, а взять их было неоткуда. Поток новобранцев совсем прекратился.
Все чаще Илья ходил в пещеры киевские и там беседовал со старцами, которые теперь, не таясь, выходили к народу, и учили, и проповедовали, и служили службы, а пуще всего разговаривали с православными и еще не крещенными киевлянами.
Илья, избравший себе духовником, сразу как приехал в Киев и попал в печорский монастырь, старца, подолгу слушал его. Старец, человек непростой, книжный и мудрый, легко разрешал любое сомнение Ильи. Например, перед хазарским походом Илья спросил:
– Как же мы пойдем сокрушать Хазарию и веру ее, ежели сами Ветхий Завет Священным Писанием признаем?
Старец одной фразой рассеял сомнение Ильи:
– В Хазарин не есть вера древняя иудейска, но ересь иудейска, талмудизмом зовомая. Эта вера хоть и толкует Ветхий Завет, но путает все, и вера другая суть…
– Что будет, ежели басурмане нашего князя склонят к вере своей?
– Народ сей веры не примет. То же будет, как с идолопоклонством… Суть веры нам непонятна, и язык непонятен ее… Да и нестроения меж князьями исламскими идут… Такая резня, сказывают, из-за веры…
Старец сидел у входа в пещеру на камушке, улыбался младенческой беззубой улыбкой, помаргивая слезящимися, отвыкшими от света глазами, и напоминал какого-то выцветшего в темноте не то крота, не то еще какого-то зверушку Невесомый и вроде вовсе плоти лишенный, будто из книги вышедший.
– Откуда вам, старцам, все ведомо? – не удержался от вопроса Илья.
Старец засмеялся по-детски.
– Двое, – сказал он, – восхотели воды речные увидеть в полноте их. Один сел в лодку, выплыл на середину реки, а другой на берегу остался и взирал на все мимо него проплывающее. Кто более воды увидит? То-то и оно! Тот, кто на берегу сидит, ибо тот, что в лодке, с водою плывет, только ее озирает. Мы, монаси смиренные, на берегу моря житейского пребываем, а воды времени мимо нас текут и все нам оставляют. Старцы же, коим откровение дано, мысленно и бестелесно странствуют по времени и ведают не только то, что было, но и то, что будет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: