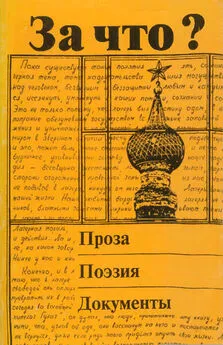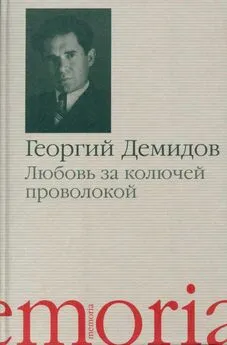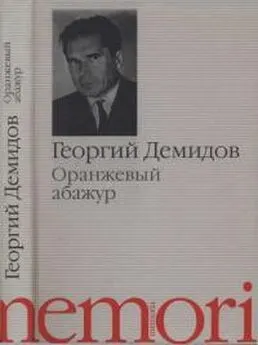Георгий Демидов - За что?
- Название:За что?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый ключ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7082-0061-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Демидов - За что? краткое содержание
За что? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В. М. Инбер не понравилось в «Огниве» стихотворение «Камея» (неполный текст), пока я не познакомил ее с полным текстом этого маленького стихотворения. Свое изменившееся мнение В. М. сочла нужным подтвердить публично, официально (в рецензии). В рецензии В. М. Инбер есть одна ошибка. Речь идет о стихотворении «Виктору Гюго». В. М. показалось, что это стихотворение относится к лагерю, тогда как «нетопленый театр» — это Вологда моего детства, двадцатые годы, самый первый увиденный мной театральный спектакль — «Эрнани» с Н. П. Россовым (был такой в России знаменитый бродячий актер-трагик), игравшим глубоким стариком роль молодого короля Карла в этой пьесе. Вот это — восхищение, ошеломление детских лет, вызванное первым театральным спектаклем, восхищение гением Виктора Гюго я и старался выразить. (Человек, сказавший, что Виктор Гюго жил и умер мальчиком с церковного клироса — Анатоль Франс — фигура ничтожная по сравнению с Виктором Гюго.)
Вот о чем шла речь в стихотворении «Виктору Гюго». А Вере Михайловне Инбер показалось, что тут речь идет о лагере, а нетопленый театр в снежной Вологде кажется В. М. чуть ли не краем света. Я хотел написать ей об этом в письме (у меня есть ее письма), но потом передумал и оставляю ее отклик как некий общественный и литературный факт, как своеобразную аберрацию. Лагерь был и остается Книгой за семью печатями — В. М. Инбер считает худшим наказанием смотреть «Эрнани» в снежной Вологде — дальше этого представить человеческие страдания автор «Пулковского меридиана» не решается. В этой ошибке есть нечто общее с впечатлением читателей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Большое количество читателей принимают повесть как изображение картины «ужасов» — а до подлинного ужаса там очень, очень далеко, и надо было десятилетие по крайней мере смертей, произвола (который только сейчас называется произволом), чтобы получить этот «каторжный лагерь». Все это — такой интересный и психологически значительный оборот дела, что я решил не нарушать иллюзию.
Наконец — третий вопрос — о значении Крайнего Севера в моей работе (или творчестве, как теперь говорят). В пушкинские и даже в некрасовские времена слово «автор» обозначало «сочинитель», писатель. Теперь же пишут: «Автор гола в ворота “Спартака”» и так далее. Я пишу стихи с детства, а в юности собирался стать Шекспиром или по крайней мере Лермонтовым и был уверен, что имею для этого силы. Дальний Север — точнее лагерь, ибо Север только в лагерном своем обличье являлся мне, — уничтожил эти мои намерения. Север изуродовал, обеднил, сузил, обезобразил мое искусство и оставил в душе только великий гнев, которому я и служу остатками своих слабеющих сил. В этом и только в этом значение Дальнего Севера в моем творчестве. Колымский лагерь (как и всякий лагерь) — школа отрицательная с первого до последнего часа. Человеку, чтобы быть человеком, не надо вовсе знать и даже просто видеть лагерную Колыму. Никаких тайн искусства Север мне не открыл.
Есть одно важное наблюдение, заслуживающее особого разговора, но связанное и со сказанным только что. Писатель не должен слишком хорошо, чересчур хорошо знать свой материал. Если писатель знает материал «слишком» — он переходит на сторону материала и теряет способность выступать от имени читателей, для которых он пишет (в смысле настоящего писательства, а не заказа). Читатели перестают понимать его. Связь нарушается. То, что казалось раньше важным (ему и его читателю), — сейчас кажется чушью, пустяками — и это не новое открытие мира, в который он может ввести читателя (это бывает всегдашней писательской задачей), а страна, где говорят на другом языке и думают по-другому. Драка из-за куска селедки важнее мировых событий — это простой пример «сдвига», «смещения масштабов». То, о чем сказано скороговоркой, походя и автору понятно и близко (иное решение нарушает художественность словесной ткани, как примечания-сноски разрушают стихи) — для читателя требует подробного, постепенного, а главное — талантливого предварительного объяснения. Писателю же в это время такая подготовка кажется ненужной. Да и не всегда возможно объяснить. Таких примеров ты можешь сам представить бесчисленное количество.
Вот кое-что из того, что я тебе хотел сказать по поводу и твоего письма, и твоей рецензии…
Жму руку.
В. ШаламовМосква, 5 августа 1964 г.
Прошу прощения за машинку. Переписывать такое большое письмо нет сил, а черновики небрежны.
Москва, 14 января 1965 г.
Спасибо за книжную посылку. Не скрою, что подбор меня удивил. Мне ведь хотелось: описания географические, исторические работы, документы, дневники, записки, мемуары, исследования, все, что угодно, но не бессовестную болтовню господина Вяткина.
Из уважения к затраченному тобой труду по пересылке почтовой я просмотрел роман. Эту «книгу» написал подлец. Ведь печатались и Вронский, Галченко — неужели все исчезло? Учебник географии был превосходным подарком, и я думал, что в издательстве есть и еще кое-что дельное.
Рассказ «Вейсманист» я тебе покажу в Москве.
Разумеется, упоминая Вяткина в предыдущем письме, я думал, что это дневник, документ… Прошу прощения. Отрицательная оценка «романа» (о котором мои корреспонденты писали как о книге, в которой есть все, кроме правды) — не нежелание получить из Магадана что-либо. Но построже, построже… Без повестей и рассказов…
В. Ш.Москва, 1 марта 1965 г.
некоторое время назад звонила твоя мама — почему я тебе ничего не пишу… Но я тебе ответил на твое письмо и посылку. Мой скептицизм тебе не следует принимать всерьез — в конце концов, то, что тебе покажется интересным и полезным для меня — то и посылай…
Привет Нине Владимировне. Жду вас обоих в Москву.
Ваш, твой В. Шаламов.Удивительная вещь. Никто из тех, кому я показывал присланную тобой ветку стланика, — не представляют, не воображают себе это растение. Им легче химеры с Собора Парижской Богоматери вообразить, чем стланик. Большое спасибо тебе за подарок.
Москва, 17 апреля 1969 г.
Спасибо за книжку Яновского. Эту книжку написал подлец. Учебник географии Кузьмина выглядит много порядочнее. Автор видит решение колымского вопроса в навечном прикреплении людей к Северу — ясно, что для «комплекса» не имеет значения, чем прикрепляют — длинным рублем или колючей проволокой — до концлагерей тут один шаг.
Как ни безразлична мне современная Колыма, я с жадностью ловлю каждую кроху сведений о любом дне из тех двадцати лет нашей колымской жизни. Тот исторический период (с 1932 по 1956 год) бесконечно важнее всей Колымы исторической и всей Колымы современной для русской истории. Поистине мы с тобой наблюдали «мир в его минуты роковые».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: