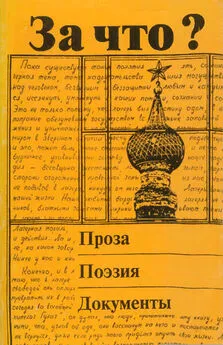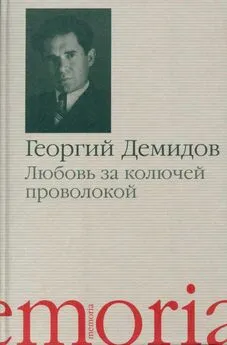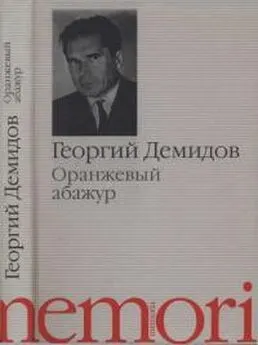Георгий Демидов - За что?
- Название:За что?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новый ключ
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7082-0061-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Демидов - За что? краткое содержание
За что? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Васильки
Нет, это не цветные нитки пропали, это растоптали васильки, взлелеянные в ее душе, захотели вырвать их с корнем, васильки, расцветавшие под ее пальцами наперекор колючей проволоке и дулам нацеленных на нее автоматов, наперекор окрикам стражи и вечному мраку заполярной ночи, — солнечные васильки в золотистой ржи ее забытого лета.
Как она кричала, как билась простоволосой головой, соломенной, как то далекое поле, как ревела белугой, как стонала! Из-за похищенного мотка синих ниток? Нет, из-за разбитой жизни, канувшей в ничто, как эти шелковинки, из-за несмелой надежды, похищенной у нее вместе с радостью запретного обладания, из-за так отрадно согревавшей душу и внезапно уворованной утехи, из-за растоптанных васильков, расцветавших в этой искалеченной душе вместе с наивным узором, который вышивали ее пальцы. Оставались только нацеленные дула автоматов, стылый мрак заполярной ночи, затхлая, непереносимая духота барака.
Под этой плотной завесой низкого, нависшего, гнетущего неба, среди визга и желтой полумглы барака, скрючившись на «верхотуре», на аккуратно застеленных тряпьем верхних нарах, они выводили наивные узоры и часами, слепя глаза, отводили душу в хитросплетениях шелковых крестиков и многоречивости знакомых до боли орнаментов, и под низко нависшим над склоненными головами потолком расстилались поля их родины, колыхалась золотая пшеница, звучали милые голоса, звенели родимые песни — и раздвигались стены барака, и лугом пахло его затхлое нутро, и утренней росою сверкала тусклая изморозь на стенах. Душу свою вплетали они в эти узоры: были то порою деревенские часовенки, «капелюшки», как они их называли, а не то милые цветы их отчизны в традиционном стилизованном орнаменте, — и оказалось: то великий грех, преступление против режима — без разрешения начальства хранить эти манящие шелковые ниточки, любоваться радугой их разноцветья, с какой-то сладостной негой перебирать скользящие моточки, бережно укладывать под подушку расшитые крестиком и любовно разглаженные рукою белые тряпочки, до головокружения самозабвенно вдыхая запах домашности, трепетно окунаясь в прошлое. Вот эта домашность — в ней-то и заключалось преступление. И, дабы пресечь его, шелковые моточки конфисковали вместе с расшитыми крестиком наивными тряпочками. Начальство «бдило».

Нина Гаген-Торн
Нина Ивановна Гаген-Торн (1900–1986). Красавица и умница. Дочь профессора Военно-медицинской академии. Выпускница Петербургского университета. Поэт и прозаик — ученица Андрея Белого. Ученый-этнограф — ученица Тана-Богораза и Штернберга. В юности — экспедиции на русский Север, самостоятельная научная работа. Блестящее, многообещающее начало.
Такой была увертюра. А потом — жизнь: тюрьмы и лагеря Колымы — Сеймчан, Эльген, Мылга. После небольшого перерыва, за который Нина Ивановна успела вернуться в Академию наук, подготовила кандидатскую диссертацию, — новый арест, на этот раз — мордовские лагеря. И там, в лагерях, огромная духовная работа: запомнить, запечатлеть в слове, сплавив воедино лиричность поэта и точность ученого.
«В страшной жизни, где люди носили платье с номерами, не имели связи с нормальным бытием, встретить человека, как бы витающего над всем лагерным ужасом, — чудо. И этим чудом была встреча с Ниной Ивановной Гаген-Торн…»
Это из воспоминаний К. С. Хлебниковой-Смирновой из Таллинна. И дальше:
«Встретилась я с Ниной Ивановной в Мордовии, в Потьме, в 1949 году. Я после брюшного тифа находилась в полустационаре третьего лагпункта. Лежали мы на сплошных нарах, больные, занятые своим горем. Почти все были обвинены в преступлениях, которых не совершали. К нам приходила, нам служила известная своей добротой Нина Ивановна. Она не только старалась облегчить нам физические страдания, но и душевные. Читала свои и чужие стихи, рассказывала об экспедициях. И мы на какое-то время забывали о своей доле горькой…
Нина Ивановна работала в лагерной обслуге “конем”. Она говорила: “Конь — благородное животное. Хорошо быть конем!” (Несколько женщин впрягались в телегу летом, в сани зимой и возили бочку с водой то в столовую, то в больницу. Возили они и дрова. Труд тяжелый, а женщины были пожилые…)
На 10-м лагпункте было много украинских больных девушек. Нина Ивановна устроила академию — занималась с девушками русской литературой и историей. Впоследствии некоторые из них поступили в университет на филологический. Кроме академии Нина Ивановна написала там большую поэму о Ломоносове, которую во время обыска отобрали лагерные надзиратели. Оперуполномоченный сказал Нине Ивановне: “Пишите и приносите ко мне на хранение. Когда освободитесь, я ее вам пришлю по почте…” Сдержал слово, прислал в Красноярский край, где Нина Ивановна оказалась в ссылке…»
Ничто не изуродовало ее души, не сломило. Улыбка — на всю жизнь. Когда однажды фотография Нины Гаген-Торн была опубликована в газете, в редакцию посыпались письма, некоторые просто с фотографиями неопознанных загадочных женщин: «А может быть, это она?..» Само явление красоты взволновало, растревожило.
Возвратившись после освобождения в родной Ленинград, Нина Ивановна еще много лет работала в этнографическом музее, опубликовала более полусотни научных статей, две книги. И не прерывала литературного творчества: написала две книги прозы, воспоминания, книгу стихов (ее поэтический дар знали и ценили А. Ахматова и Б. Пастернак)…
Илья Сельвинский писал Нине Гаген-Торн в 1964 году:
«Дорогая Нина Ивановна! С глубоким волнением прочитал Ваши стихи. В них захватывает подлинность переживания. Это гораздо выше искренности, которая иногда у некоторых поэтов как бы смакует боль и этим впадает в кощунство. Вы очень верно сказали: “О боли надо говорить простыми строгими словами…” Именно так Вы и говорите.
Ужасно жаль, что в наше время, запутавшееся в далеко не диалектических противоречиях, Ваших стихов нельзя опубликовать. Но не падайте духом: придет и для них время — иное, освобождающее.
Вы в этом отношении не одиноки: целые романы и трагедии спят в берлогах, ожидая весны».
В. Шенталинский
Сила слова
Они шли гуськом, друг другу в затылок, чтобы не сбиться с тропки и не провалиться в промоины, где быстрый поток пробил лед, образуя черные полыньи. Снег, острый и колючий, как град, хлестал в спины. Они все сжались, втягивая шеи в бушлаты и стараясь защитить щелки, куда забивался ветер. Был восьмой час, и до рассвета оставалось еще часа два. Не сбиться с тропы помогала белизна снега: на этой непорочной чистоте была ясна и чернота полыньи, и тени от поваленных, засыпанных снегом деревьев. Опасность оставалась в том, что мелькающий падающий снег слепил глаза и накрывал белым покровом кашицу воды по наледям. В нее легко было ступить, и тогда ледяная вода сразу пропитывала валенки. Они шли молча, думая только о том, сохранились ли горячие угли под пеплом костра в заслоне. Если сохранились — можно сразу разжечь костер, сесть кругом него на баланы дров, дожидаясь рассвета; валить лес можно, только когда рассветет, в десятом часу утра. Развод заключенных на работы проходил в семь. Если все будет благополучно, они за час дойдут до места и там, в яме под корнями плавника, будет защита от ветра. Будет золотой милый огонь, к которому можно протянуть руки, подставить намокшие валенки, иссеченные снегом бушлаты. Можно вздохнуть: теперь уже никто не попал под лед, все в безопасности! И, бездумно уставившись, кормить золотое пламя крупными сухими ветками. В черное небо от лиственничных ветвей взовьются золотые искры, мешаясь с белыми снежинками. Можно сесть, сохранять неподвижность, не боясь, что мороз охватит тебя и ты уже не сможешь встать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: