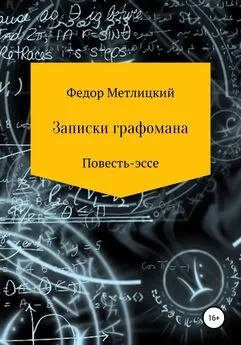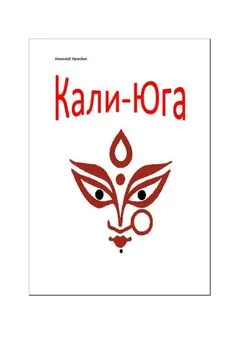Эрик Нойч - Встреча. Повести и эссе
- Название:Встреча. Повести и эссе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Радуга
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрик Нойч - Встреча. Повести и эссе краткое содержание
Произведения опубликованы с любезного разрешения правообладателя.
Встреча. Повести и эссе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это особый фольклор, он возник несколько веков назад в Польше среди иудеев, что жили в деревнях — кто батраком, кто крестьянином — и в городах, в гетто. Они сочиняли легенды и сказки, смешные и страшные, черпая эти сказания отовсюду понемногу: из древних законоуложений, из Талмуда и Библии, просто из житейского опыта. Когда у нас в Праге гастролировал львовский театр, я подружился с актером Леви; мы часто сиживали в кафе «Савой»; из его историй я многое почерпнул для себя.
— А мы и не слыхали про такие…
— Многие мои вещи связаны с хасидскими легендами, — сказал Кафка.
Гоголь смотрел на Кафку с веселым изумлением.
— Я знаю в России великих поэтов — но русских. Вот уж не думал, что и в моей отчизне существуют подобные предания. Помню, был у нас еврей и в имение матушки часто наведывался — долги выколачивать. Однако непохоже, чтобы он еще и сочинительством занимался.
— Но ведь Чичиков ваш, — прервал его Гофман со смехом, — уж он-то точно русский, а торговал ведь мертвыми душами.
На это Гоголь ничего не ответил. Он спросил:
— Скажите, а этот хасидский народ, который, как вы утверждаете, верит в бога, — может, он и в черта тоже верит?
— А как же, — подтвердил Кафка. — В доказательство попробую пересказать одну историю, меня она до костей пробирает.
«Жил-был мальчик, и узнал он, что неподалеку в городе живет раввин, настоящий мудрец. И так захотелось мальчику у этого раввина учиться, что стал он упрашивать отца с матерью послать его в тот город.
Жаль родителям расставаться с сыном, но тот все просит и просит, так умоляет, что однажды отец не выдержал и собрался в путь. Не успели они из городка выехать — сломалось колесо у телеги. Отец почуял недоброе, думает: вот знак божий, не надо никуда ездить. Но сын опять его упрашивать, и так умолял, что уговорил наконец. Едут дальше. Тут налетает свирепая буря, испугался отец, и возвратились они домой. От горя мальчик занемог, слег в постель. Врач и родители испугались, что мальчик умрет, если его не отправят к мудрецу в обученье.
Приехали они в город. Остановились в трактире, пошли ужинать. Вдруг подходит к их столу незнакомец, седой как лунь, весь иссох, взгляд суровый. Спрашивает: зачем, мол, приехали. Отец рассказал, а незнакомец ему и говорит:
— Счастье ваше, что я того человека хорошо знаю. Не посылайте к нему сына, никакой он не мудрец, только юношество совращает своим учением.
Опечалился отец, но и обрадовался, что в последнюю минуту удалось беду перехитрить, и везет сына домой. Только сын от горя совсем расхворался, и никакой врач не знал, как его лечить, и вскоре он умер. Прошло несколько лет, и вот заезжает отец случайно в тот самый город и останавливается в том же трактире. Видит — сидит за столом тот незнакомец, заметил его и спрашивает, куда же, мол, сын его подевался. Отец отвечает: так, мол, и так, умер. Незнакомец как услышал, обрадовался, руки потирает, а глаза так и посверкивают.
— Так узнай же, — говорит, — всю правду. Тот мудрец достиг Большого света, а твой сын — Малого, и, если бы они встретились, объявился бы Мессия. А теперь этому не бывать».
Весь бледный, Кафка умолк. Гофман смотрел на него с удивлением. А Гоголь воскликнул:
— И правда, бес как живой! Хоть я и не все уразумел в этой истории. В моих вещах тоже бесов хватает. Но, по правде сказать, мне куда лучше удается подметить бесовство в людях.
— А у меня в «Эликсире дьявола» и то, и другое есть, — сказал Гофман. — И сатана строит козни, и в людях играет сатанинство. Вот вы, Кафка, много чему научились из легенд, о которых рассказывали, да, сдается мне, не все пошло вам во благо. К чему эти беспричинные страхи, это отчаяние, эта неуверенность? Боюсь, настоящих людей из плоти и крови, со всеми их слабостями, но и достоинствами, у вас нет. Созданиям вашим ведомы лишь немногие чувства, притом такие, что навещают человека лишь временами. Вы ведь сами в этом признались. Люди у вас для того только и существуют, чтобы воплощать все эти страхи.
— Постойте, — перебил его Кафка. — Легенду эту не я сочинил, это предание. Вы правы, в истории этой царит зло. Но господин Гоголь спросил меня о черте, вот я и рассказал.
— Хотел бы я знать, — проговорил Гоголь задумчиво, — отчего столь велик соблазн показывать зло, даже дьявольщину? Меня вот постоянно этим попрекают. И отчего оно удается лучше и легче, нежели живописание чистоты и добродетели?
— Оттого, верно, — ответил Гофман, — что изображение зла больше трогает сердце и несет утешение.
— Утешение?
— Да, и утешение тоже, — подтвердил Гофман. — Читателю зло знакомо, он со злом, можно сказать, накоротке. И, читая о нем в книге, чувствует, что не одинок в своих бедах. Ему потом легче на душе, как после исповеди. Почему ему хорошо? И отчего среди каменных дев на портале Страсбургского собора, да и на других соборах, злые девы выглядят привлекательней благочестивых? Зло гораздо на ухищрения, оно заманчиво, а добро бесхитростно и способно обольщать только самим собою, но для нас, смертных, это соблазн слабый. Манящий образ чистоты — редкий гость в наших душах.
Гоголь ловил каждое слово.
— Вы тысячу раз правы, — произнес он. — Благородство, чистота — как редко их замечаешь! Оттого и писать о них трудно, во всяком случае мне. Вот Пушкин — тот умел, у него и чистота, и благородство проступают подчас даже в житейской прозе: ну хоть Татьяна в «Онегине», любой ее жест, любое слово. Иное дело — природа, горы и долы — тут я сразу чувствую все, что есть величественного, чистого и прекрасного в моей отчизне.
— И музыка, — добавил Гофман. — В ней тоже величие и чистота в каждом звуке. Наверно, оттого, что звук бесплотен и легко вбирает красоту там, где слово и камень уже бессильны. Но вы, кажется, утверждали, — обратился он к Кафке, — что смысл всякого рассказа можно разгадать уже в языке, каким он написан?
— Да, — подтвердил Кафка. — И всякий смысл требует своего, особого языка. Но и тут я мечусь как неприкаянный между немецким и чешским. Я много у кого учился: и с Гашеком в погребках не однажды беседовал, и с Леви в кафе «Савой»; писателей, особенно русских и немецких, читал запоем, хасидские легенды запоминал. А датчанин Кьеркегор! Читаешь — и завидуешь, даже сквозь перевод чувствуешь: вот у кого единство языка и смысла! Возьмите хотя бы это место из его книги «О равновесии эстетического и нравственного в становлении личности»:
«Друг мой! Снова говорю тебе то, что повторял неустанно. Снова призываю тебя: или — или! Ибо важность дела, о котором идет речь, оправдывает важность слов. Лишь по смехотворной неспособности суждения не замечаем мы подчас, сколь многие вещи подлежат и подчиняются этому принципу: или — или. Но бывает и по-другому: иной человек слишком слаб, чтобы суметь со всею торжественностью сказать: или — или. А на меня эти слова всегда производили глубокое действие и поныне производят. Стоит мне произнести их даже вне всякой связи — и тотчас же в воображении встают неодолимые противоречия. Слова эти звучат для меня как формула заклятья: или — или».
Интервал:
Закладка:
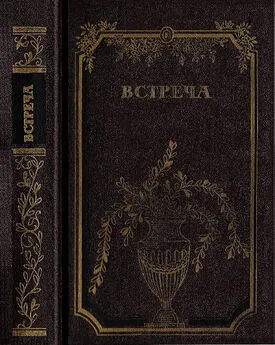
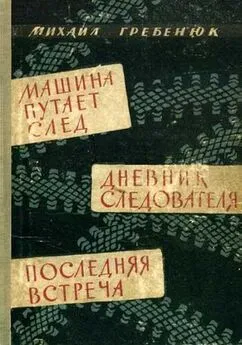
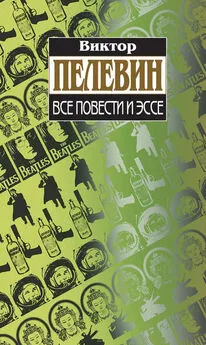
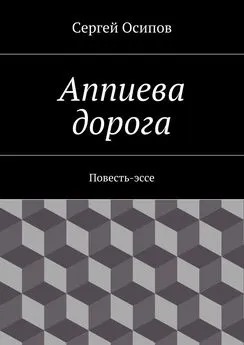
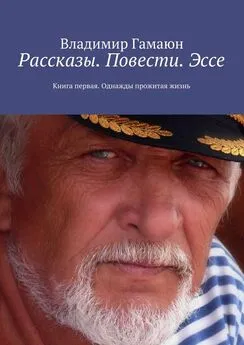
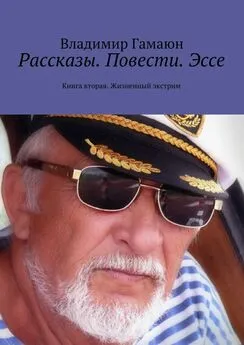
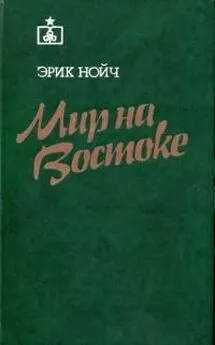
![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/1102281/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn.webp)