Анастасия Цветаева - Воспоминания
- Название:Воспоминания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Аудиокнига»
- Год:2012
- Город:М.
- ISBN:978-5-271-44155-4, 978-5-93015-133-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анастасия Цветаева - Воспоминания краткое содержание
В своих «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева с ностальгией и упоением рассказывает о детстве, юности и молодости.
Эта книга о матери, талантливой пианистке, и об отце, безоглядно преданном своему Музею, о московском детстве и годах, проведенных в европейских пансионах (1902–1906), о юности в Тарусе и литературном обществе начала XX века в доме Волошина в Коктебеле; о Марине и Сергее Эфроне, о мужьях Борисе Трухачеве и Маврикии Минце; о детях – своих и Марининых, о тяжелых военных годах.
Последние две главы посвящены поездке в Сорренто к М. Горькому и поиске места в Елабуге, где похоронена сестра.
Воспоминания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зеленые, мохнатые, пахнущие Москвой хвойные ветки, качающиеся от шелестящих цепей (мы их клеили все, большие и дети), от шаров, синих и розовых, от золотых и серебряных картонажей, и на фоне этой знакомой, щемящей душу прелести давней – новая прелесть незнакомого человека.
А Владислав Александрович смотрел на нас, словно понял, чем он сразу для нас стал, и тешился этим, поддразнивал. Но не только нас он заметил из всех пансионеров, а – мимо сияющей красоты Нади – увидел, зорко, маму, чуть ли не в первый раз в этот вечер поднявшуюся в столовую, к табльдоту.
Это еще не был табльдот, в тот вечер Сочельника. Долго, широко, шумно кончались приготовления к елке (должно быть, это была пиния). Накрывание праздничных столов, блеск стекла и сервизов, ваз с фруктами, бутылок вина, гроздья синего сушеного винограда, светлый шелк дамских платьев, мамины руки на клавишах пианино. И сине-вечернее итальянское небо в распахнутые над садом окна. Лампы, свечи в канделябрах. Рождество на чужбине, без снега, без холода, с шумом моря – непонятное Рождество! И еще новые люди: худой, остролицый Герб! (такое странное имя!), поляк. Похожий на петуха! Его подруга, маленькая, круглолицая, добрая (курица!). О чем-то переговариваются полуфразами, шутками Кобылянский и Герб. Александр Егорович хлопочет над занавеской, из-за которой он будет выкидывать пакеты с подарками. Лёра у елки, кончает развешивать украшения, яблоки, мандарины. С ней Сережа и Надя. Вова, Жорж, Володя и мы помогаем разбирать елочные свечи – отнимаем их друг у друга за понравившийся цвет. Две пожилых сестры, немки, вполголоса напевают знакомые нам елочные песни: “ Stille Nacht ” и “ Oh, du fröhliche… ” [17]. И сквозь весь этот шум, шелест, блеск, стук, сквозь все запахи и все голоса – длинный, пристальный взгляд Кобылянского, изучающий, чуть смеющийся. Он сидит под ветками елки (а Герб мечется по столовой). Мамины руки летают по клавишам, гремя, замирая, царствуя.
Какой был счастливый вечер! Больше пол столетия прошло – а он жив! Как было светло от свечей и ламп! Сколько людей, какое дружество друг к другу! Как вылетали из-за занавески подарки – сколько радости, смеху, поздравлений! Где еще найти такую огромную, шумную, веселую, невиданную семью, со всех стран света собравшуюся! Не меньше детских горят глаза взрослых. И вот – первая спичка (здесь они серные, в плоских коробочках, зажжешь их и о башмак – показал Володя, – и о стену) наклонена к первой елочной свече, тухнут лампы и канделябры, и огромная тень хвойного великана упала на потолок и на стену, она множится, крепнет, дышит от зажигаемых – сразу, с боков, сверху (кто-то стоит на стуле) – свечек, и в комнате снова светло, – поглотив рухнувшую на нас темноту, горит на смену ламп гигантская люстра, лесная, пышным трепещущим треугольником живых веток, озаряя на нее глядящих, собранных здесь в первый и, наверное, в последний раз! Запах, запах! Муся и я нюхаем воздух. (Переглянулись – дедушкой! Это в чуть отведенной от губ руке Кобылянского – папироса, в прокуренном мундштуке… Отчего же она пахнет сигарой ?) Но уже летел по губам и ушам детский шепот, что Кобылянский и Герб – революционеры, что царь посадил их в крепость, они бежали с каторги, Кобылянский переплывал под пулями реку – и он не может вернуться в Россию, пока не будет в ней революции!
Восторг бежит по детским существам от таинственных слов, непонятных, – и уж по-иному не отрываются глаза от человека, отряхающего пепел, – огневой точкой он падает мимо веточки, – и это тоже кажется полным значения. Точно брошенный талисман! Волнистые, отброшенные с высокого лба волосы, змеящаяся усмешка рта; огромный черный, мягкий, завязанный крупным бантом галстук, так несходный со строгим очертанием мужских галстуков, – все полно вызова людям иной, чем его, жизни, все дышит оттолкновением от принятых норм жизни, – и все это сразу становится каноном для нас, Маруси и меня. Как мы могли жить вчера, и все годы, и дни до вечера, когда мы его не знали, не знали, что он – есть?!
Как было понятно, что он не шумит, как Герб, не подымает тостов «за народ», не спорит, не кричит над бокалом, – а, освещенный теперь вновь зажженными лампами, лишь упрямее, выше держит горделивую голову.
Как смеется рыжая борода Александра Егоровича, какие строгие стрелы мечут в него темные глаза Иловайской, как весело улыбается Надя, сколько сушеного синего винограда поедаем мы с Мусей – и немного шумит от вина и от позднего часа в голове.
Прижимая к груди свои два обретенных альбома для стихов – Марусин кожаный, темно-красный, мой – малиновый, плюшевый, мы бродили, счастливые, между взрослых.
– Твоя мама чудесно играет, – сказал Кобылянский Мусе, – я давно не слышал подобной игры!
Как удержалась Марина сказать, что она тоже играет? Что она будет музыкантом?
Лёру просят петь. Мама перелистывает ноты. Доктор Белозерский берет мандолину. Море шумит. Первое Рождество на чужбине!
Чужбина ! Счастье и горе ее…
Мамино здоровье поправлялось. Манджини торжествовал. Сыворотка Маральяно спасла еще одного. Лечение Сережи и Нади было начато. Сыворотка – и молодость… Только один Рёвер был худ и бледен, глаза неестественно ярки. Ривьера, делавшая чудеса, медлила. А он ли ее не любил! Не его ли – в Мусин альбом – было по-немецки написанное стихотворение, воспевавшее райскую красоту морских берегов, синюю эмаль неба, зелень кипарисов и пальм? Описание было в вопросительной форме (о, где такое возможно?) и в конце строфы содержало ответ, торжественно-восхищенный: “ Das kann ja nur die Riviera sein !” [18]К ней он стремился с начала болезни, задлившейся. Для пути и лечения там родители его долго собирали пфенниг за пфеннигом, марку за маркой… И вот он, бедный немецкий служащий, – на Ривьере!.. Ступать по этой чужеземной драгоценной земле уже было блаженство! Одна картина табльдота была – роскошью! И была в Рёвере застенчивая скромность: не ставить себя в ряд с другими, не требовать себе быстрого исцеления от этой целящей природы. Он только благоговел перед ней, исходил улыбками и поклонами – не одним нам, детям, а каждому встречному – брату по общей судьбе дышать этим воздухом, жить в прославленной веками Италии… И не было в нем даже того, тоже скромного, но все же себя оценивающего достоинства , которое дышало вокруг внимательного к нашей семье архитектора Арнольда: за Арнольдом было прошлое, его архитектура, его уже не юношеский возраст. У Рёвера не было возраста: он был – как ребенок, почтительный ко всему и всему радующийся. И казалось, не было у него и прошлого – может быть, потому, что оно было так скромно (тихие, каких миллионы, родительские сени и конторка клерка); он весь был – в будущем, в том, куда, через идущее здоровье, через Ривьеру, распахнется жизнь. И была в нем такая внимательность ко всем. Этот тихий восторг не гас в нем ни на минуту; он озарял его день так, как озарен бывает день именин ребенка, свадебный день человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
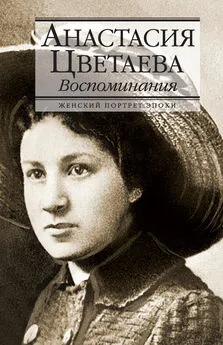

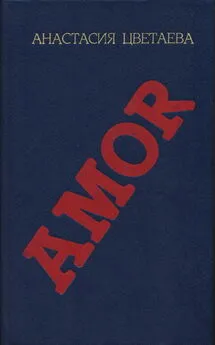
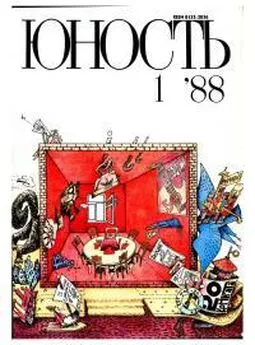

![Анастасия Сычёва - Воспоминания о будущем [publisher: ИДДК]](/books/1066670/anastasiya-sycheva-vospominaniya-o-buduchem-publisher.webp)

