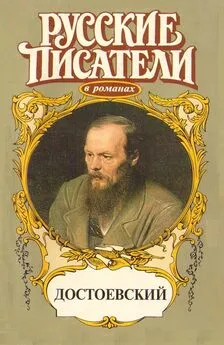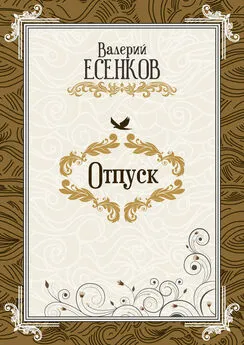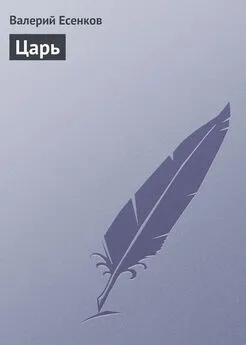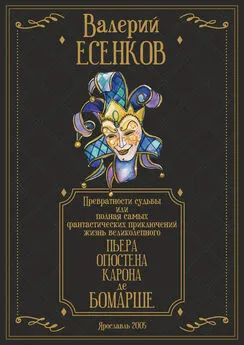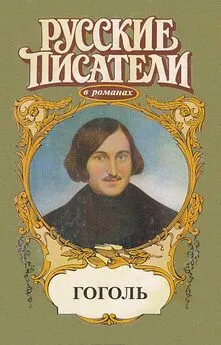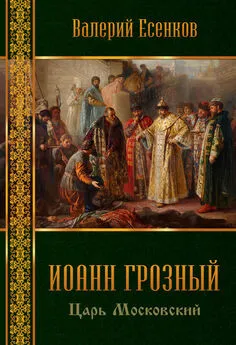Валерий Есенков - Игра. Достоевский
- Название:Игра. Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0762-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Игра. Достоевский краткое содержание
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Игра. Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— История европейских литератур, — так прямо и начинал, ужасно бледнея при этом,— особенно в последнее время, представляет много примеров блистательного успеха, каким венчались некоторые писатели или некоторые сочинения. Кому не памятно время, когда, например, вся Англия нарасхват разбирала поэмы Байрона и романы Вальтера Скотта, так что издание нового творения каждого из этих писателей расходилось в несколько дней в числе не одной тысячи экземпляров. Подобный успех даже очень понятен: кроме того, что Байрон и Вальтер Скотт были поэты великие, они ещё проложили совершенно новые пути в искусстве, создали новые роды его, дали ему новое содержание, каждый из них был Колумбом в сфере искусства, и изумлённая Европа мчалась на всех парусах в открытые ими материки мира творчества, богатые и чудные не меньше Америки. Так вот, в этом не было ничего удивительного. Не удивительно также и то, что подобным успехом, хотя и мгновенным, пользовались таланты обыкновенные: у толпы должны быть свои гении, как у человечества есть свои. Так, во Франции, в последнее время Реставрации, выступила на сцену под знаменем романтизма целая фаланга писателей средней величины, в которых толпа увидела своих гениев. Их читала и им удивлялась вся Франция, а за ней, как водится, и вся Европа. Роман Гюго «Собор Парижской Богоматери» имел успех, каким бы должны пользоваться только величайшие произведения величайших гениев, приходящих в мир с живым глаголом обновления и возрождения. Но вот едва прошло каких-нибудь пятнадцать лет, и на этот роман уже все смотрят как на верх ловкости таланта замечательного, но чисто внешнего и эффектного, как на плод фантазии сильной и пламенной, но не дружной с творческим разумом, смотрят как на произведение ярко блестящее, но натянутое, всё составленное из преувеличений, всё наполненное не картинами действительности, но картинами исключений, уродливое без величия, огромное без стройности и гармонии, болезненное и нелепое. Многие теперь о нём даже совсем никак не думают, и никто не хлопочет извлечь его из Леты, на глубоком дне которой покоится оно сном сладким и непробудным. И такая участь постигла лучшее создание Гюго, в прошлом мирового гения, стало быть, о судьбе всех других, и в особенности последних, нечего и говорить. Вся слава этого писателя, недавно столь громадная и всемирная, теперь легко может поместиться в ореховой скорлупе. Давно ли повести Бальзака, эти картины салонного быта с их тридцатилетними женщинами, были причиной общего восторга, предметом всех разговоров, давно ли ими щеголяли наши русские журналы? Три раза весь читающий мир жадно читал или, лучше сказать, пожирал историю «Одного из тринадцати», думая видеть в ней «Илиаду» новейшей общественности. А теперь у кого станет отваги и терпения, чтобы вновь перечитать эти три длинные сказки? Я не хочу этим сказать, чтобы теперь ничего хорошего нельзя было найти в сочинениях Бальзака или чтобы это был человек бездарный, напротив, и теперь в его повестях можно найти много красот, но временных и относительных, у него был талант, и даже замечательный, но талант для известного времени. Время это прошло, и талант забыт, и теперь той же самой толпе, которая от него с ума сходила, нимало нет нужды, не только существует ли он нынче, но и был ли когда-нибудь.
Прокашливался жутко, с харканьем, с хрипами, даже стонал от бессилия продолжать, однако же глядь, отдышавшись, минут через пять обрушивался на что-нибудь, хотя бы на наше скверное, меркантильное время:
— Успех нынче не в том, что по выходе в свет роман был в короткое время расхвачен, прочитан, перечитан, зачитан, растрёпан и затёрт на всех концах земли, переведён на все европейские языки, возбудил множество толков и породил великое желание ему подражать. Всё это в наше время не мерка истинного, действительного успеха. В наше время объем гения, таланта, учёности, красоты, добродетели, а следовательно, и успеха, который в наш век считается выше гения, таланта, учёности и добродетели, этот объем легко измеряется одной мерой, которая заключает в себе все другие. Деньги — вот эта мера. В наше время тот не гений, не знание, не красота и не добродетель, кто не «нажился, не разбогател. В прежние добродушные и невежественные времена гений оканчивал своё великое поприще или на костре, или в богадельне, если не в доме умалишённых, добродетель имела одну участь с гением, а красота считалась опасным даром природы. Нынче не то! Нынче все эти качества трудно начинают своё поприще, зато хорошо оканчивают его: сухие, тоненькие, бледные смолоду, они в лета опытной возмужалости, толстые, жирные, краснощёкие, гордо и беспечно покоятся на мешках с золотом. Сначала они бывают и мизантропами и байронистами, а потом делаются меценатами, довольные миром и ещё больше собой. Эстетическая критика нынче очень простая: всякий русский подрядчик со счетами в руках и с бородкой может быть величайшим критиком нашего времени.
Как ему было этого не понять, как он мог с этим не согласиться, когда в то самое время, зимними промороженными ночами, писал роман о новейшем герое, который оттого и страдал, что с малым чином и при малых деньгах был всеми унижен и оскорблён, оклеветан и втоптан в самую грязь, так что нравственное начало до того помутилось, до того помутилось в истерзанной, дыбом вставшей душе, что несчастный и гордился своей очевидной порядочностью и своим бескорыстием, до которых дела не было никому, и с зубовным скрежетом проклинал эти отошедшие в далёкое невозвратимое прошлое добродетели, и жаждал высшего чина и денег мешок, и воображал свою персону такой, какими вокруг него были все, то есть пронырой воображал, клеветником и пройдохой, и приходил в помрачающий ужас, что способен быть таким стервецом, и терял совершенно себя в этой бесовской сумятице нравственных чувств.
Не соглашался он с одним только тем, что говорил Белинский о сочинениях Гюго и Бальзака, которыми всё ещё был восхищен, понимая уже, что тут не вкус изменял Виссариону Григорьевичу, а принципы критики, которая становилась у того уже слишком реальной и в этом отношении узкой, так что слишком немногие явления подпадали под мерку её, и он даже упрекал критика в том, что тот силился дать литературе частное, недостойное её направление, низводя её единственно до описания, если так можно выразиться, одних фактов газетных или скандалёзных действительных происшествий. Белинский сердился и горой вставал за натуральную школу, он же Белинскому возражал, что желчью не завлечёшь никого, а только смертельно всем и каждому надоешь, хватая встречного и поперечного прямо на улице, останавливая каждого прохожего за пуговицу фрака и начиная ему насильственно проповедовать и учить его уму-разуму. Споры, таким образом, выходили горячие, отчасти даже непримиримые, но это всё ещё были не главные споры, главные-то споры ждали ещё впереди, и потому они спорили увлечённо и живо, скорее только знакомясь друг с другом, чем уже расходясь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: