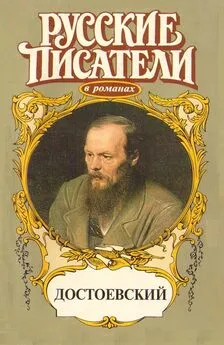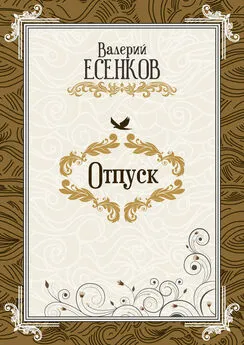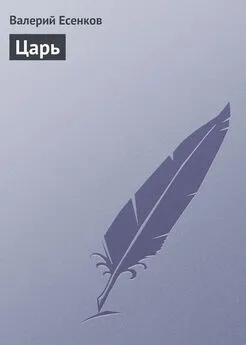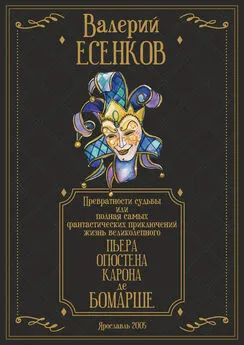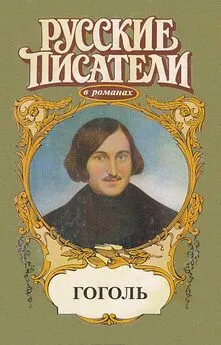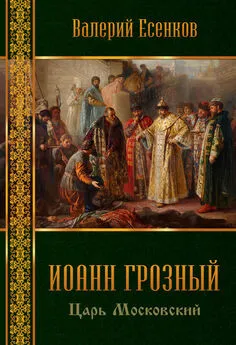Валерий Есенков - Игра. Достоевский
- Название:Игра. Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0762-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Игра. Достоевский краткое содержание
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Игра. Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Заспешив, сунув в пепельницу и сильным движением раздавив папиросу, он огляделся, отыскивая шляпу глазами, забыв, где она.
Поглаживая больное колено, не замечая его беспокойства, Тургенев рассуждал тревожно и мягко:
— А только в голове невольно зарождается мысль, уж не уродца ли высидел я. Вероятно, прав был Альфред де Виньи [33] Виньи Альфред де (1797—1863) — французский писатель-романтик. В драме «Чаттертон» и в поэме «Смерть волка» звучат мотивы одиночества личности в мире стяжательства.
, говоривший, что литература имеет то роковое свойство, что положение в ней никогда не бывает завоёванным окончательно, что с каждым произведением имя писателя разыгрывается вперемежку с самыми недостойными, что каждое новое произведение — это почти дебют и поэтому сделать карьеру в литературе нельзя.
Эти слова остановили его, и он перестал искать шляпу глазами. Да, в этих словах была большая и горькая правда, хотя он успел мимоходом подумать о том, что напрасно мелькнуло это имя француза, к чему оно тут, лучше бы проще высказать эту мысль и своими словами. Он тоже всё последнее время чувствовал себя новичком, и причину обнаружить было нетрудно: в голову, как назло, лезли только недостойные его пустяки, ни одной действительно крупной, значительной мысли, вот и ту, о самолюбии современного человека, который больше всего на свете страшится быть ординарным, пришлось отложить или всё-таки нет?
Собственно, он был уверен, что непременно напишет роман, неуверенность заключалась не в этом, чувство дебюта и прочее, но с каждым днём его всё больше томил и преследовал страх, что он исчерпан до дна, что его вершина уже позади, что теперь не наскрести ему сил и на половину того, чего он достиг, а хотелось писать всё совершеннее, всё крупней, и он всё время сбивался, спешил, хватался за всякую мысль и с нарастающим ужасом убеждался, что он совершенно бессилен и пуст.
Тургенев задумчиво вторил ему:
— Хотел было приняться опять за работу, зашевелилась литературная жилка, пошевелилась, пошевелилась да и пропала. Я ничего не читаю, ничего не делаю, ем, сплю, гуляю, почти здоров, одна катковка в колене, да это пока не болезнь, все болезни ещё впереди. Даже думаю очень мало. Как-то спокойнее так. Всего не передумаешь, да и нового не выдумаешь ничего. Уж стареть так стареть. Главное, надо в руках себя крепко держать, и тогда всё пойдёт как по маслу.
У него вертелся коварный вопрос, собственно, что же пойдёт как по маслу, если ни о чём и не думать, ни о чём не читать, но он подтвердил, опять решаясь остаться, чувствуя, что в эту минуту не может уйти:
— Разумеется, надо...
Тургенев поднялся, сделал несколько неспешных шагов, но тут же сморщился, захромал, доковылял до письменного стола, присел боком, помолчал, должно быть борясь с приступом боли, потеребил несколько каких-то листочков и с лёгкой грустью, но спокойно, размеренно проговорил:
— Вот придумал себе развлечение, забавляюсь писанием опереточных либретто, а мадам Виардо чудесно перекладывает их на музыку. Одна из опереток, озаглавленная «Слишком много жён», в которой мой приятель Поме играет роль паши, имела такой необыкновенный успех, что её давали пять раз и королева Пруссии пожелала увидеть её. А всё равно с каждым часом становится равнодушнее жить.
Невольно и сочувствие и злость охватили его. Это как же можно так раскисать? Как же не бороться, не биться, не рваться вперёд? Как можно забавляться какими-то оперетками и поощрять в себе равнодушие к жизни?
А Тургеневым, видимо, всё сильней овладевало отчаяние, и жалобный голос звучал всё беспомощней, всё слабей:
— Я давно уже видел, что жизнь бежит в эту сторону, и сделал набросок, указал, так сказать, пальцем, как я понял её, но этого, видимо, мало при нынешнем положении. Что ж, серьёзному художнику остаётся только уйти и предоставить другим действовать и работать, что я и сделаю, должен сделать, как видно.
У него сердце защемило от этих отчаянных слов, чужое страдание, исходящее от этого скорбно замкнувшегося, постаревшего в самом деле лица, от этого трагически сдержанного, спокойного, но безвольно угасавшего голоса, как электричество прилипало к нему, и страстно хотелось броситься к этому несчастному человеку, крепко стиснуть по-братски его большую ослабевшую руку и наговорить ему кучу каких-то нелепых, может быть, а всё равно нужных слов, но он уже задыхался от злости, которая всё разрасталась и жгла, превращаясь в презрение.
Тургенева он всегда представлял себе безмятежным счастливцем, которому жизнь при самом рождении дала всё, чего можно только желать от неё: тончайшую поэтичность, глубокий талант, прекрасное происхождение, ум, почти уникальную образованность, обеспеченность, наконец, а тот, обнаруживалось, погубил это всё своими руками, превратясь зачем-то в бесприютного, чужого скитальца, оторванного от почвы, как от дерева лист, и теперь вот гонит его по Европам его собственная неприкаянность и собственная тоска.
Как было не злиться, как было не выходить из себя? И он страдал за него, и злился, и выходил из себя, и в то же время с робкой радостью ощущал, что огромная идея, пригодная, может быть, для настоящего, большого романа, которая клюнулась на скамейке, когда он слушал и разглядывал тоже тоскующего, казалось, надломленного Ивана Александровича Гончарова, и которая неожиданно закрепилась здесь, в первую минуту встречи с Тургеневым, подставлявшим ему для поцелуя розоватую щёку, вдруг окрепла и разрослась, ещё как будто неясная, плохо понятная, но уже начинавшая принимать почти определённые, зримые формы, втягивая в себя каким-то образом и мысль о заточенном в крепости императоре, и мелькавшую идею современного самолюбивого человека, страстно жаждущего встать над другим хоть на ноготь, на волосок, и что-то ещё, что он, кажется, чувствовал, но не мог бы выразить словом.
Ему захотелось всему-всему сосредоточиться на этой огромной, самой важной идее, чтобы не потерять, не дай бог, чтобы поскорей рассмотреть, осмыслить и, натурально, сто раз проверить её, но это просившее слёз сострадание, эта зубы сжимавшая злость, его охватившие помимо желания, страшно мешали ему, и он сердился опять и опять, что пришёл зачем-то сюда выслушивать этот старчески-ребяческий вздор, тут же резонно напоминая себе, что без этого глупейшего вздора у него не было бы сейчас, может быть, никакой настоящей идеи, которая как будто годилась в настоящий роман, и всё равно раздражённо сердился на обмякшего, сиротливо умолкнувшего Тургенева, что тот разжалобил его этой своей душевной беспомощностью, но сердился скорее за то, что эта беспомощность обязывала его продолжать этот тягуче-бессмысленный, ненужный почти разговор, а не ломать голову над мелькнувшей идеей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: