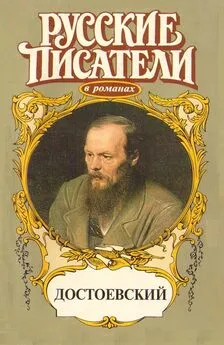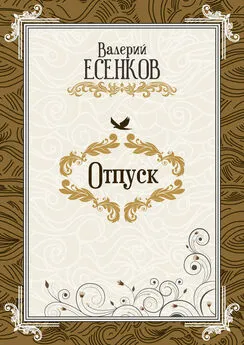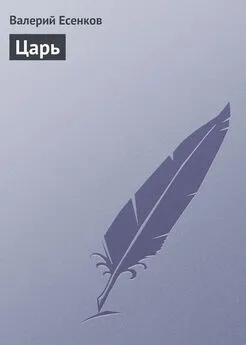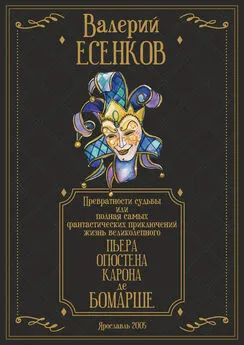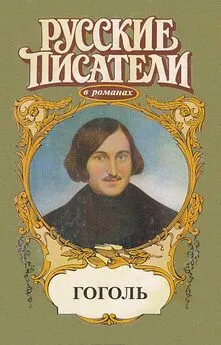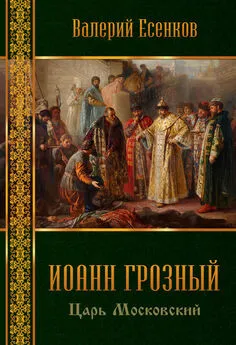Валерий Есенков - Игра. Достоевский
- Название:Игра. Достоевский
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Армада
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0762-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Есенков - Игра. Достоевский краткое содержание
Читатели узнают, как создавался первый роман Достоевского «Бедные люди», станут свидетелями зарождения замысла романа «Идиот», увидят, как складывались отношения писателя с его великими современниками — Некрасовым, Белинским, Гончаровым, Тургеневым, Огарёвым.
Игра. Достоевский - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Но ведь вы теперь первый писатель России!
Тургенев отмахнулся как-то слишком безразлично и вяло:
— Первый писатель России теперь Лев Толстой, а моё место десятое.
Ну уж это было и для Тургенева чересчур, уж в такое-то самоуничижение поверить было нельзя, даже выслушивать это у него больше не было сил, и он, схватив шляпу, вскочив, торопливо сказал:
— Ну что же, тогда, тогда извините за правду, но ведь эту правду мою я во что бы то ни стало правдой считаю, как же тут быть, а вы, со своей стороны, можете со мной ни под каким видом не соглашаться, это полное право за вами, и не мне, не мне на него посягать. Во всяком случае, вы мне поверьте, как высказать её мне было трудно, поверьте, высказать именно так, чтобы вас не обидеть, и вот по этой причине я отдалял мой визит со дня на день, а теперь разрешите непременно откланяться. Буду рад видеть вас у себя. Знаете только, есть тут одно обстоятельство, работаю я по ночам и потому долго сплю, впрочем, с двенадцати часов я к вашим услугам.
Тургенев тотчас поднялся и протянул ему руку:
— Долгом почту.
Вежливо пожав эту тёплую широкую мягкую руку, нахлобучив одним рывком шляпу, он выскочил вон, проклиная себя и клянясь, что больше ноги его в этом доме не будет, решительно и навсегда.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Но он был в возбуждении крайнем, почти как в бреду, и шёл торопливо, тоже почти наугад, тяжёлым развалистым шагом, машинально поворачивая туда, куда назад тому час или два свернул лакированный экипаж. Он холодел от негодования, передёргивал от озноба плечами, пытался всё плотней завернуться в сюртук, несмотря на летний послеобеденный жар, продолжая этот важный, этот принципиальный и по многом, во многом, он предчувствовал это, символический спор, бормоча про себя, что надо бы, очень бы надо заказать в Париже Тургеневу телескоп, чтобы тот наводил его на Россию и хоть в телескоп-то, в телескоп разглядывал нас. И чёрт его дёрнул провраться! Ну зачем же, зачем ему понадобилось молоть перед тем всякий вздор? Дел-то, дел-то сколько ещё, а он занял столько времени вздором. И, разумеется, никакой всё это не вздор, а, положим, святейшие, наилучшие его убеждения, но ведь и у того убеждения, и тоже, вероятно, святейшие и наилучшие, нельзя же в этом тому отказать. Постой, но какие могут быть у того убеждения? Ведь это же, в самом деле, не убеждения, а гнусность, гадость одна, и не спорить нельзя, и спорь с ними, спорь, хоть с пеной у рта, да зачем же пускаться на оскорбления? Чёрт побери эту гнусную страстность! Ничего нельзя сделать, так-таки ничегошеньки, не вломившись в какую-нибудь гнуснейшую чушь. Разумеется, всё-таки всё это надо было сказать, и как-то особенно жаль, что не пришло сразу в голову посоветовать телескоп, но это ведь, в конце концов, деспотизм — шельмовать человека за его убеждения, хотя бы и на подобные убеждения надо плевать и плевать. Где же свобода личности, где терпимость и хвалёное это всебратство, которые он имеет смелость проповедовать даже в самых крайних пределах? Что-то больно уж далеко от всебратства-то занесло, далеко, со своим братом, с писателем, вдребезги расплевался, едва не подрался на кулаки. А ведь, в самом деле, так вот и до драки можно дойти или покусаться друг с другом. Но ведь, надо правду признать, с теми-то убеждениями какое всебратство, безнравственность одна и разброд, с теми убеждениями примириться ни под каким видом нельзя, они-то и вред всему, с корнями надобно их, на позор, карикатуры писать, посмешищем сделать, иначе всё прахом пойдёт, нет, не драться нельзя, невозможно не плевать в подлеца, а ведь тогда какая же совесть, где же истина, где же высшая справедливость, друг друга судить, всемирный суд, а не всемирное братство. Может быть, сила проповедника не в словах, а в поступках? И для чего было того понуждать, сам бы писал да писал, творил, создавал, как там это у них, оставался в России, тоже вот, милый друг, испугался тюрьмы, с женой молодой захотелось на воле пожить. Спору нет, всё, всё мертво без поступка, всё лицемерно насквозь, ложь в словах, не подкреплённых поступком, хоть в колокола валяй о всебратстве, а тяни в свой карман, так не жди, что тебе кто-то поверит, дураков нигде нет. Ну, положим, даже я не в карман, а так, одну оплеуху дай или влепи ему подлеца, так все и возлюбят друг дружку до слёз и до избиения невинных младенцев. Экая, в самом деле, если подумаешь, дрянь! Ужас в каждом из нас! И, может быть, рано мечтать о всебратстве, почву надо расчистить пока, то есть к почве вернуться, стать как народ, только вот как же им стать? Тех-то вот, тех-то, что же, кулаком возвращать? И какого дьявола попёрся к этому сопливому старцу, с его шепелявеньем и с его генеральством, со всей этой онемеченной гнилью? Так, изволите видеть, у него получилось, лучше весь талант просвищу, пущу по ветру, а немцев не брошу, немцы, представьте, родина для него, как же не сечь? Ведь пришла же охота явиться, так сказать, почтение своё засвидетельствовать! Ведь не плеваться же шёл к любезному другу, ведь мог бы заранее предугадать, что дойдёт до плевков, как не дойти! Пропади пропадом эти долги! Он не должен разве первой встречной собаке!
Фёдор Михайлович почти задохнулся, выпучил глаза и едва не пустился обратно бегом. Ему тотчас сделалось жарко. Вот оно что: он так и не отдал проклятые талеры! За тем шёл да с тем и ушёл! Узелок бы хоть завязал, так вот нет, сподручней выругать, чем заплатить! Того гляди, в прямые мошенники угодишь, пламенный проповедник всебратства! Долги свои даже врагу возврати! Нет уж, если драть кого до последнего вздоха, так сперва с себя три шкуры спусти, благодетель, с себя, а потом... и потом снова с себя, да опять же с себя же! Жалкая всё-таки дрянь человек, стыдоба, ведь нельзя же прощать себе ни пылинки, ведь это как же без этого жить?
Он еле дышал и умеривал шаг, но через минуту снова пускался почти что бегом. Нестерпим и гадок был этот промах, и он ожесточённо терзал себя за него, самым искренним образом считая себя наипоследнейшей дрянью. Он даже уверился вдруг, что худшего подлеца не появлялось на свете, уж и не производила земля. В ожесточении в нём всё потемнело, глаза сузились в мрачные щёлки, жутко взглядывая на случайных прохожих, так что те невольно сторонились его, щёки точно усохли, затвердели бескровные губы, лицо походило на рожу бандита. Он сделался нестерпим себе самому, но в страстном своём увлечении беспощадной своей самоказнью всё-таки ощущал, что ему слишком мало одной озлобленной нестерпимости, что в действительности он ещё хуже и гаже, чем снисходительно думает о себе, даже по справедливости топча себя в грязь, ведь все мы бываем к себе снисходительны, и он будто нарочно искал с болезненно-хмурой настойчивостью, чем бы уж совсем-совсем неприглядным до смерти себя уязвить, истерзать себе душу в самую кровь.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: