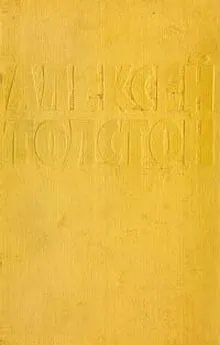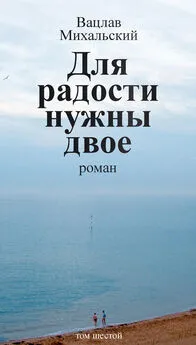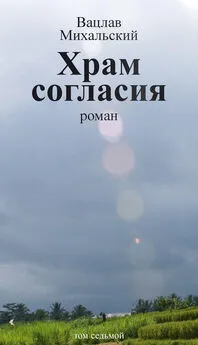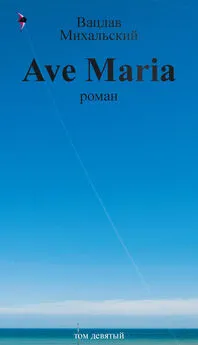Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Название:Собрание сочинений в десяти томах. Том 7
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное Издательство Художественной Литературы
- Год:1959
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Толстой - Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 краткое содержание
Собрание сочинений в десяти томах. Том 7 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тогда, недели через две после нарвской неудачи, Петр написал Борису Петровичу Шереметьеву, собиравшему в Новгороде растрепанные остатки конных полков (кто без коня, кто без сабли, кто — гол начисто):
«…Не лепо при несчастье всего лишиться… Того ради повелеваю, — тебе при взятом и начатом деле быть и впредь, то есть — над конницей, с которой ближние места беречь для последующего времени, и идтить вдаль для лучшего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем: понеже людей довольно, так же реки и болота замерзли… Еще напоминаю: не чини отговорки ни чем, ниже болезнью… Получили болезнь многие меж беглецов, которых товарищ, майор Лобанов, повешен за такую болезнь…»
Но дворянская иррегулярная конница не была надежна, — на место ее набирали людей всякого звания: и мужиков и кабальных, — по вольной охоте за одиннадцать рублев в год с кормами, в десять драгунских полков. От кабалы и мужицкой неволи столько людей просилось в верхоконную службу — пришлось отбирать самых здоровых и видных. Обученные драгунские сотни уходили в Новгород, где генерал Аникита Репнин приводил в порядок и обучал бывшие при Нарве дивизии.
К новому году укрепили Новгород, Псков и Печерский монастырь. На севере укрепляли Холмогоры и Архангельск, — в пятнадцати верстах от него, в Березовском устье, торопливо строили каменную крепость Ново-Двинку. Летом в Архангельск на июньскую ярмарку приплыло много товарных кораблей из Англии и Голландии. (В этот год в казну были взяты для торговли с иностранцами новые, против прежнего, товары, — морской зверь, и рыбий клей, и деготь, и поташ, и воск… Царские гости все брали в казну, частным купцам оставалось торговать разве кожаными изделиями да резной костью.) Двадцатого июня в устье Северной Двины ворвался шведский военный флот. Увидя новостроенную крепость, не посмел пренебречь — пройти мимо к Архангельску, — открыл по фортам Ново-Двинки огонь со всех бортов. Во время диверсии из четырех шведских фрегатов один сел на мель перед самой крепостью, за ним села яхта. Русские бросились в челны и с бою захватили и фрегат и яхту, — остальные суда без чести уплыли назад в Белое море.
Все лето шли стычки передовых отрядов Шереметьева и Шлиппенбаха. Шведы ходили под Печерский монастырь, но только сожгли кругом села, твердыни не взяли. Шлиппенбах в тревоге писал королю Карлу, прося еще тысяч восемь войска, — русские-де с каждым месяцев становятся все более дерзки, видимо — от нарвского разгрома они, против ожиданий, быстро оправились и даже преуспели в военном искусстве и вооружении, — нынче с двумя бригадами легко не разбить русские войска… Карл в это время взял Краков и гнал Августа в Саксонию, — он был глух к голосу благоразумия.
Так шли дела до декабря тысяча семьсот первого года.
Глубокой зимой Борис Петрович Шереметьев узнал от языка, что генерал-Шлиппенбах стал на зимние квартиры на мызе Эрестфер, под Дерптом. Узнал — и сам испугался дерзостной мысли: неожиданно войти в глубь неприятельской страны и захватить врага врасплох на отдыхе. Случай редкий. В прежние времена, конечно, Борис Петрович счел бы за лучшее не пытать неверного счастья, но за этот год стало очень жестко с Петром Алексеевичем: не давал никому ни покоя, ни отдыха, ставил в вину не столько то, что ты сделал, но то, что мог бы сделать доброго, а не сделал…
Приходилось пытать счастье. Борис Петрович одел в полушубки и валенки десять тысяч новонабранного и новообученного войска и с пятнадцатью легкими пушками на санях, — быстро, но с великой опаской, высылая вперед легкие конные полки черкас, калмыков и татар, — в три дня подошел к Эрестферу. Шведы поздно заметили на высоком снежном берегу речонки Ая ушастых всадников с луками и конскими хвостами на копьях. Подполковник Ливен вышел к речке с двумя ротами и пушкой. На том берегу косоглазые варвары подняли изогнутые луки, пустили стаю стрел, раздался нарастающий, как бы волчий вой, — по крутым сугробам вниз через речку, поднимая снежную пыль, помчались справа и слева полосатые татары с кривыми саблями, синежупанные черкасы с пиками и арканами, в лоб налетели визжащие калмыки, — триста эстляндских стрелков Ливена и сам подполковник были порублены, поколоты, раздеты до исподнего.
Всполошился весь шведский лагерь. Новый отряд шестью пушками оттеснил от реки конных разведчиков. Шлиппенбах с горнистами скакал по лагерю, шведы выскакивали, — кто в чем был, — из изб и землянок, бежали по глубокому снегу к своим частям. Все войско выстроилось перед мызой, артиллерийским огнем встретило подступавшую русскую армию. Борис Петрович в одном суконном кафтане, с трехцветным шарфом через плечо, верхом ехал в середине карей.
Огонь шведов привел в конфузию передние сотни драгун, еще не видевших боя. Шведы устремились вперед. Но выскакавшие на санях пятнадцать легких пушек открыли такую скорострельную пальбу картечью, — шведы изумились, ряды их остановились в замешательстве. С флангов мчались на них оправившиеся драгунские полки Кропотова, Зыбина и Гулицы. «Братцы! — натужным голосом кричал Шереметьев посреди карей. — Братцы! Ударьте хорошенько на шведа!..» Русские с привинченными багинетами двинулись вперед. Быстро наступали сумерки, озарявшиеся вспышками выстрелов. Шлиппенбах приказал отходить под прикрытие построек мызы. Но едва печальные горны запели отступление, — драгуны, татары, калмыки, черкасы с новой яростью налетели со всех сторон на пятящиеся, ощетиненные четырехугольники шведов, прорвали их, смяли. Началась резня… В темноте генерал Шлиппенбах сам-четверт едва ушел верхом в Ревель.
В Москве по случаю первой победы жгли потешные огни и транспаранты. На Красной площади были выставлены бочки с водкой и пивом, на кострах жарились целиком бараны, раздавали народу калачи. На Спасской башне свешивались шведские знамена. Меньшиков поскакал в Новгород, чтобы вручить Борису Петровичу царскую парсуну, или портрет, усыпанный алмазами, и еще небывалое звание генерал-фельдмаршала. Всем солдатам, — участникам победы, — выдано было по серебряному рублю (впервые отчеканенному на московском монетном дворе вместо прежних денежек).
Борис Петрович со слезами благодарил и с Меньшиковым послал Петру письмецо, прося отпустить его в Москву по делам неотложным… «Жена моя по сей день живет на чужом подворье, надобно ей хоть какой домишко сыскать, где бы голову приклонить…» Петр ответил: «В Москве быть вам, господин генерал-фельдмаршал, — без надобности… Но — полагаю то на ваше рассуждение… А хотя бы и быть, — так, чтобы на страстной седмице приехать, а на святой — паки назад…»
Через шесть месяцев Борис Петрович снова встретился с генералом Шлиппенбахом у Гумельсгофа, — из семи тысяч шведы в этом кровавом бою потеряли пять с половиной тысяч убитыми. Ливонию защищать было некому — путь к приморским городам открыт. И Шереметьев пошел разорять страну, города и мызы и древние замки рыцарей… К осени отписал Петру:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: