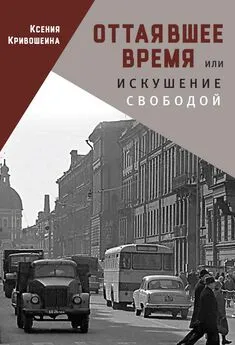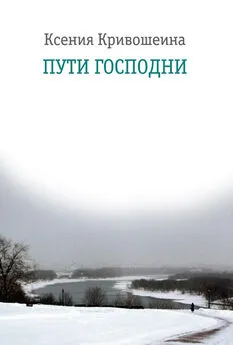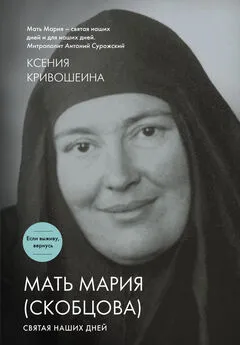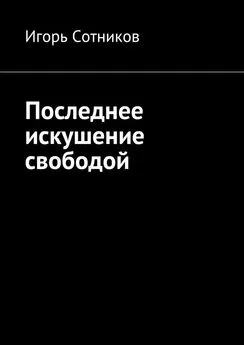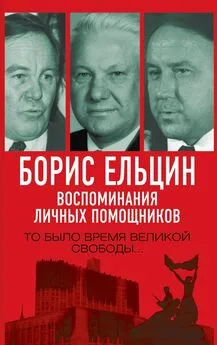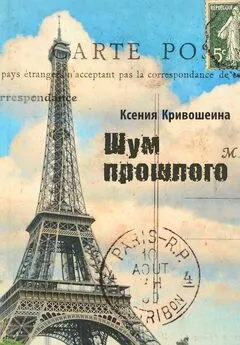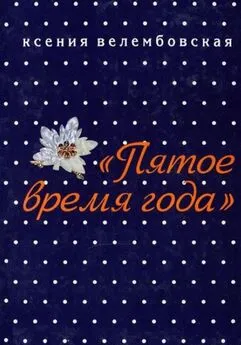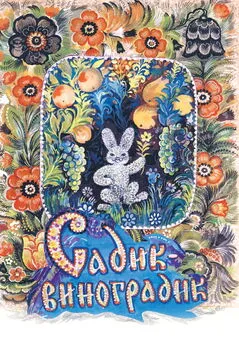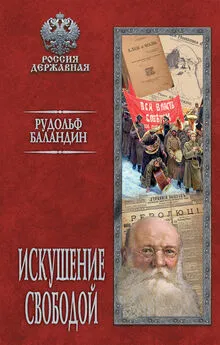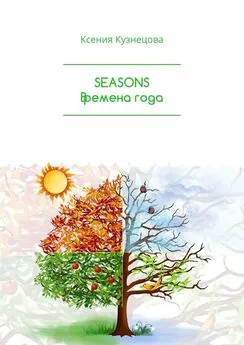Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Название:Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:C,анкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-73-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой краткое содержание
Оттаявшее время, или Искушение свободой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Алёша страдал, стал болеть, сходить с ума, пить. Однажды он не выдержал и принёс на злосчастный выставком «другие» работы. Впервые он решился показать своим товарищам по цеху, что он делает в свободное от транспарантов время. Видимо, шок был обоюдный. Если до этого он ещё получал жалкие гроши творческой помощи от живописной секции, то теперь ему сказали, что, наверное, нужно подумать об освобождении мастерской, лучше передать её более достойному художнику.
Насколько я помню, Алёша был фронтовик, человек прямой и партийный, для него смерть Сталина и хрущевская «оттепель» многое поставила с ног на голову, к моменту встречи с Филоновым он уже сложился как художник, перемолка самого себя надорвала его. Справиться с навалившимся культурным грузом он не мог, поговорить было почти не с кем, а в голове, и так не шибко образованной, варилась настоящая революционная каша. Время шло, денег не было, единственным кормильцем стала Мэтта, которая иногда подрабатывала декоратором в театре. Искусство — жестокая вещь, не терпит компромиссов и лжи, но товарищи-художники ещё страшней. Они перестали общаться с Алексеем, писали на него доносы. Он стал изгоем, делился своими мыслями только с близкими друзьями, начались запои, потом случился инфаркт…
Все были заложниками системы и, как только выбивались из стаи, сразу делались изгоями. Попытка стать хоть немного свободней приводила к большим испытаниям. Наши органы не дремали, всех брали на заметку, борьба с формализмом продолжалась, а потому не у всех хватало смелости отказаться от предписанного метода и стать вахтером или кочегаром. Но были и такие. Впрочем, некоторые умудрялись жить, сидя на двух стульях, балансировать «немного влево, а потом опять в строй». Мало кому уже тогда стало ясно, что мы живем с фигой в кармане и что вся наша полусвобода есть сговор со страхом. Как я уже говорила, у каждого был свой путь, каждого осеняло по-своему. Вот и мой отец, в первые годы обучения в Академии художеств им. Репина побывавший в учениках у И. Билибина и К. Рудакова, закончивший курс в мастерской им. И. Бродского, в 1947 году был принят в ЛОСХ по дипломной работе — иллюстрации к «Медному всаднику» Пушкина. Папа был хорошим живописцем и графиком, он здорово писал портреты разных сталеваров и колхозниц, сделал целую серию литографий Федора Шаляпина… Его способностей вполне хватало на журнал «Огонек», от которого он ездил спецкором по стройкам и привозил изображения ударников. Его сотоварищем по тем поездкам был репортер Буковский, отец будущего диссидента Владимира Буковского.
Вплоть до десяти лет отец мучил меня ужасно, заставлял часами позировать: картины «Девочка стирает» (я неподвижно стояла над тазом, слезы капали в воду), «Девочка гладит» (тут я тоже страдала с утюгом)… Наконец он смилостивился и написал картину «Девочка читает» (здесь я сидела на полу в окружении кукол и занималась любимым делом). В 1952 году он меня посадил в ужасно неудобную позу: я полулежала животом на нашем круглом обеденном столе, облокотившись левой рукой о что-то жёсткое, а правой ладонью любовно прикасалась к странице книги «Родная речь», поставленной передо мной вертикально. Моё лицо должно было светиться от радости, потому что со страницы на меня смотрел Сталин. Задуманная папой картина называлась «Любимая книга» и предназначалась в соискатели Сталинской премии. На какой-то день тупого смотрения в напомаженное лицо вождя я стала скулить и требовать замены «Родной речи» на другую книжку. Отец строго сказал: «Терпи, ребенок, вот получим премию и будем действительно жить лучше и веселее». А мама ответила: «Глупости, ведь ты даже не партийный, а держат тебя в «Огоньке» только потому, что ты хорошо рисуешь им свинарок и доярок. Так что Сталинской премии тебе не видать». И решительным жестом заменила «Родную речь» на академическое издание Пушкина. В свои восемь лет я уже немножко читала, а потому, листая толстенный фолиант в бежевом кожаном переплете (а в нем, кстати, были иллюстрации моего отца к «Медному всаднику»), остановилась на сказках. Больше я не ныла, а увлеклась «Попом и Балдой». До сих пор помню, как, дойдя до слов:
Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти… —
я спросила папу: «А что такое оброк?» И он мне грустно ответил, тыча в свою картину: «Вот это и есть оброк». Я тогда ничего не поняла, но по прошествии многих лет отец мне напомнил мой странный детский вопрос, и мы потом с ним частенько рассуждали о тех долгах и оброках, которыми тогда были обложены почти все.
Муки моего позирования перед портретом закончились неудачей — вождь всех народов хвост откинул, Сталинская премия накрылась медным тазом, а от папиной картины осталась цветная репродукция, которая приехала со мной в Париж. Где теперь пылится оригинал?!
Сейчас мне трудно восстановить последовательность, но смену «декораций» в нашей квартире я очень хорошо помню. Остатки мебели были проданы в комиссионный магазин, мама ещё работала в Театре юного зрителя, и, хотя подрабатывала росписью тканей, денег не хватало, потому что папа ушел из «Огонька». Все его колхозницы и сталевары засунуты на верхние полки стеллажей, где постепенно обрастают пылью, а папа, расстелив на полу нашей столовой (она же полумастерская) газеты, взобравшись на стремянку, макает кисти в банки с гуашью и брызгает, и мажет, и опять брызгает краской по стене. Все течёт на пол, поллитровые пустые банки из-под соленых огурцов заполняются разноцветными колорами, потом для простоты и дешевизны в дело пошли анилиновые красители со смесью белил.
Настенная роспись каждую неделю обновлялась.
Точную дату отцовской «перестройки» я не могу назвать, но помню, что он мне показывал книгу, а позднее говорил, что с неё все и началось. Книга была на французском, как она к нему попала, не знаю, отец хорошо владел немецким, а французский разбирал с трудом, но, видимо, содержание произвело на него такое впечатление, что он, вооружившись словарем и школьной тетрадкой, прямо-таки впился в неё. Названия я не помню, но книжка была о творчестве Макса Эрнста. Совсем недавно в Париже проходила его выставка, и, бродя по залам, я вспоминала иллюстрации в той книге. Теперь я понимаю, что рассказ о дадаизме, о группе Андре Бретона и о том, как Макс Эрнст стал основателем сюрреализма, стремящегося передать реальность подсознания посредством метода «автоматизма», произвёл на отца огромное впечатление. Техника свободных ассоциаций и вывода из подсознания собственной личности легла в основу папиного «ликбеза». На стене нашей квартиры, следуя методу, описанному в книге, запечатлены были его первые эксперименты.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: