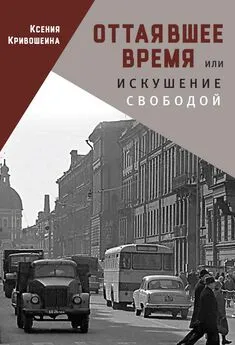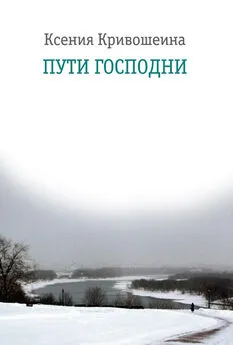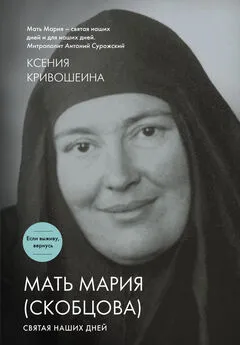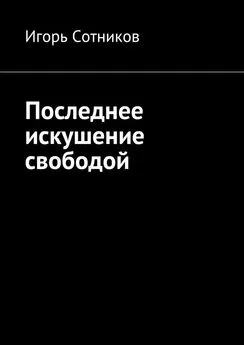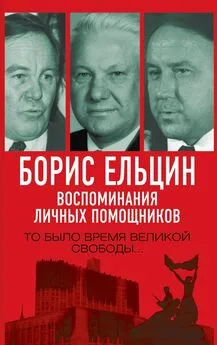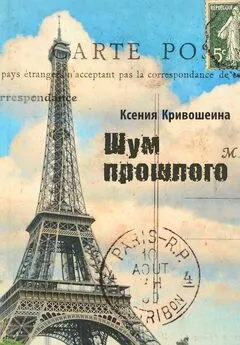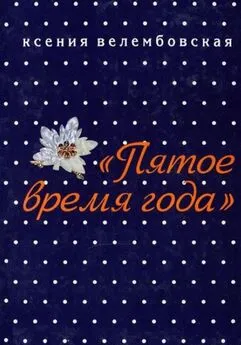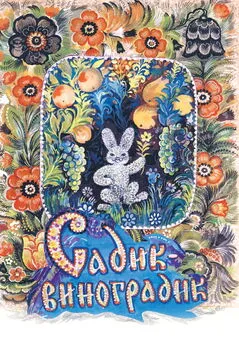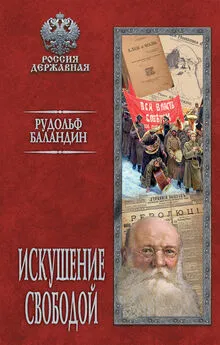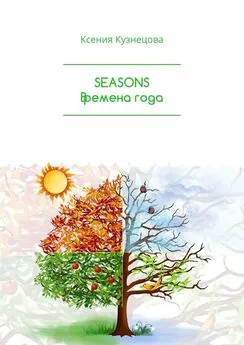Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Название:Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:C,анкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-73-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой краткое содержание
Оттаявшее время, или Искушение свободой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— А как же вы туда добираетесь?
— О, это целое путешествие! И пешком, и на плоту по быстрой реке, иногда на ослике по скалистой дороге… — рассказ изобиловал робинзоновскими деталями и явно был соотнесён с моей молодостью.
Зоя вернулась через час и предложила чаю. Но Андрей попросил другой напиток. Не помню что, но закуска была, и оживленный разговор уже не о Дагестане, а о концертах и планах «Мадригала».
Я вскоре встала.
— Мне тоже пора! — заторопился Андрей.
Мы попрощались с Зоей, вышли на лестничную площадку, где, несмотря на писательский дух, вечно пахло кошками и помойными ведрами. Как ни странно, но лифт работал, а я надеялась, что мы будем спускаться пешком. Лязг железных дверей, кнопочек в темноте этой клетки не различить, где тут вниз, а где наверх, побыстрее бы сообразить.
Ну да, он, конечно, стал приставать. Скорость лифта казалась катастрофически допотопной.
Зоя мне вечером позвонила: «Как ты? Все в порядке?»
Между девушкой и «опальным князем» всё обошлось отшучиванием.
Знала бы я тогда! А ведь даже не подозревала, что Андрей дружит с Никитой, моим будущим мужем, и что мы после нашей свадьбы в 1980-ом поселимся под Женевой, у Татьяны Дерюгиной-Варшавской, и Андрей будет к нам часто приезжать в гости.
В семидесятые годы многие из официальных отщепенцев (и мой отец тоже) решили показывать свои работы на выставкомах Союза художников. Зачем? Дело было проигрышным, и они заранее это знали. Но как ни один писатель не может всю жизнь работать «в стол», так ни один художник не может долго работать «за шкаф».
Татьяна Николаевна Глебова писала тогда пастели на довольно больших картонах. Помню, что они были удивительно прозрачные по цвету, что-то розово-голубое, мерцающее… Прежде чем художник попадал со своей работой на выставку ЛОСХа, нужно было провести работы (в первой инстанции) на секции графики, председателем которой в те годы был Л.О. Три-четыре члена секции сидели молча, смотрели на пастели Глебовой и ждали, что скажет председатель. Новые веяния семидесятых уже позволяли обсуждение подобных «кощунственных работ», но разнести в пух и прах, унизить гадкими словами — это было делом обычным. И председатель с покровительственными интонациями в голосе, даже особенно не стесняясь, сказал: «Вот Татьяна Николаевна, она, кажется, ученица Филонова, но мы тоже не хуже, наши учителя — прославленные академики, а потому мы считаем нецелесообразным… время ещё не пришло; да, и вот здесь, — и он ткнул пальцем в пастель, — и здесь нужно доработать». Кажется, председатель был учеником Евгения Кибрика (который прославился серией работ о Ленине).
Точной даты не помню, но дело было в середине семидесятых, и отец, совершенно отчаявшись, что никому, кроме узкого круга людей, показать свои работы не мог, решился понести их на выставком в Союзе художников. Как положено, принес сначала на секцию графики. Коллеги, видно, такой смелости от отца не ожидали, тоже долго молчали, что-то невнятное мычали, наконец стали давать советы: «Вот это нужно доработать, здесь сыровато, а тут композиция разваливается, в следующий раз… через год приходите, а сейчас, к сожалению, не можем порекомендовать выставкому». Среди этой группы не было ни одного, кто хоть что-нибудь понимал в абстракции или в сюрреализме, но советы давать — дело нехитрое. Отец с ними не спорил, но больше всего он был возмущен молчанием одной своей коллеги и друга, которая эти работы много раз видела у нас дома, и он её предупредил, что придет на выставком. «Почему же Вы ничего не сказали, не защитили меня?!» — спрашивал он потом В.М. Ответ папу ошеломил: «Игорь, разве Вы не знаете, что меня оформляют в турпоездку в Англию?! Вы же знаете, что, если бы я вас защищала, мою характеристику бы зарезали».
Справедливости ради нужно сказать, что среди членов ЛОСХа были и такие, кто не писал портретов вождей, не принимал активного участия в жизни Союза, из-за чего перебивался с хлеба на квас и работал «за шкаф». Их было мало, единицы. Некоторым повезло, и они могли существовать за счёт жен или мужей с другой профессией. Кто-то подрабатывал в школах учителем рисования, но не всем доверяли молодую поросль. Выбор у таких людей был ограничен, жили они в тени — без наград, льгот, мастерских и заказов. Труднее всего было живописцам и графикам, на которых был возложен главный груз идеологической пропаганды.
Сюжеты, стиль, мазок, вплоть до слоя краски, соцреалистической живописи были настолько выверены, что даже лирические пейзажи без людей сановные адепты этого направления зарезали как безыдейные, а натюрморты из пустых бутылок, тем паче селёдки на «Правде», как у Оскара Рабина, вызывали ярую ненависть и доносы «куда следует». Выставкомы и худсоветы не пропускали «пустых» (так выражались), «левитановских» лесов и полей. На них должна была кипеть жизнь колхозная и рабочая. И не дай Бог на горизонте будет изображена церковь! После ухода Хрущева, в семидесятые, церковь разрешили изображать, но без крестов, а на палехские шкатулки, кроме прижившихся в пятидесятые пионеров и комсомольцев с жар-птицами в руках, опять вернулась лирическая тематика Алёнушек и Иванушек. Окна РОСТа, Лисицкий, Татлин и подобное формалистское мракобесие давно смылось из памяти и заменилось «Боевым карандашом». Кстати, об этом ударном органе гораздо красочнее, чем я, могли бы рассказать Гага Ковенчук и Миша Беломлинский, они там долго вырисовывали плакаты «Пьянству — бой», «Не проходите мимо!» и проклятия американским и израильским агрессорам. Миша эмигрировал в США, а Гага остался в СССР и приезжал в девяностые в Париж с папкой рисунков под мышкой, но они не были похожи на плакаты, которыми он зарабатывал на хлеб с маслом.
В конце пятидесятых появилась первая возможность перестроиться и стать «прикладником». Училище им. Мухиной (детище барона Штиглица) выпустило первых художников декоративно-прикладного искусства, которые в керамике, стекле и промышленной графике стали позволять себе безыдейные орнаменты в виде квадратиков, штрихов, клякс и прочего. Но и они с трудом пропускались через сито худсоветов.
Худсоветы могли низвергнуть любого гения, и, эх жалко, Илья Репин был в могиле, они и ему бы дали прикурить! Страшнее всего было тем, кто кормился с портретов вождей, — их гоняли исправлять выражение глаз и складки пиджака по пять раз, ведь за каждый штрих цензоры из обкома снесли бы голову самим членам худсовета. На каждое заседание худсовета человек шёл как на эшафот, обычно художника выгоняли из комнаты, и обсуждение проходило при закрытых дверях.
Я помню, как тяжело жил один из талантливых живописцев, Алёша Комаров. Он был членом ЛОСХа, как и его жена Мэтта Дрейфит. До конца пятидесятых он писал всю эту мерзость, но в один прекрасный день — весенняя «оттепель», и друзья принесли ему в подарок книгу, изданную в Германии, о творчестве Павла Филонова. Мэтта, которая знала немецкий, перевела текст о художнике, после чего с Алёшей произошла метаморфоза: он отказался от своих вождей и погрузился в изучение метода Филонова. Мы с отцом много раз бывали у него в мастерской, и он с наивным восторгом показывал свои эксперименты. Чем дальше, тем больше он замыкался, перешёл на шрифтовые халтуры для заводов (кушать-то надо было), тексты плакатов тоже были гадкие, но Алёша пытался себя преодолеть, ночами писал свою живопись, которая выходила не так, как он бы хотел, из-за постоянного раздвоения и усталости. В конце концов, он бросил завод и кое-как стал преподавать, но и тут «жить не по лжи» удавалось с трудом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: