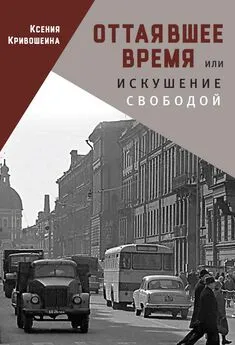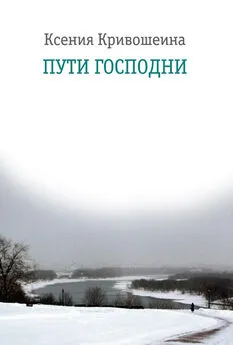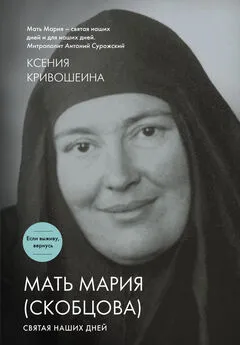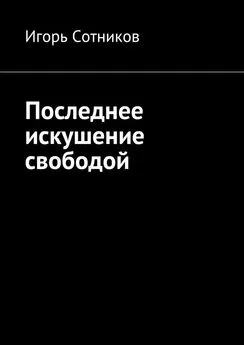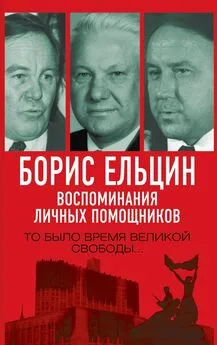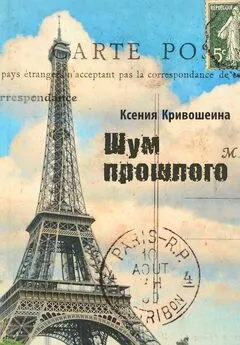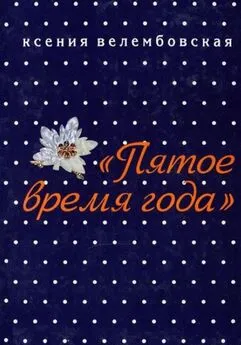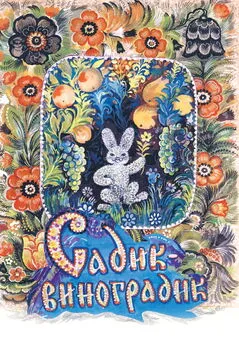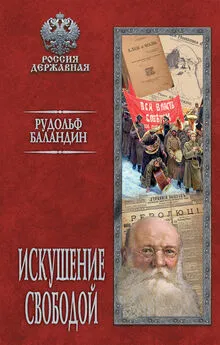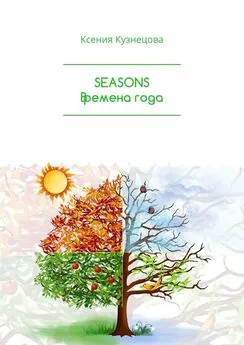Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Название:Оттаявшее время, или Искушение свободой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:C,анкт-Петербург
- ISBN:978-5-906910-73-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Оттаявшее время, или Искушение свободой краткое содержание
Оттаявшее время, или Искушение свободой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «манежной» выставке, открывшейся первого декабря 1962 года и, кстати, посвящённой тридцатилетию московского Союза художников, принимали участие только официальные члены Союза, но были среди них и те, кого в нашей стране к тому времени было приказано забыть. Среди них и знаменитые: Р. Фальк, В. Татлин, Д. Штеренберг, В. Древин, и молодые: П. Никонов, Т. Салахов, Э. Неизвестный и многие другие.
И Павел Филонов, и Натан Альтман, и группа Стерлигова — они все состояли в Союзах, но шли не в ногу с «идущими вместе»! Кстати, интересных художников в рядах ЛОСХа — МОСХа к началу семидесятых появилось много. Именно поэтому я не хочу приписывать все заслуги прорыва в современном искусстве одной взрывной волне андеграунда семидесятых. Мы все отдаём им должное и вспоминаем их с благодарностью, но процесс начался раньше. Впрочем, так уж устроено человеческое восприятие: редко помнят первого, а последнего возносят до небес. Пример тому — «Архипелаг ГУЛАГ». Этот поистине гениальный документ затмил на долгие годы братьев Солоневичей и Шаламова — первооткрывателей темы.
Помню выставки в Доме культуры им. Газа, оставившие во мне не самые восторженные чувства. Многое было на уровне самодеятельности, «выдумывания велосипеда», подражания двадцатым годам. Но откуда было ждать самостоятельности в полностью изолированном СССР? Хорошо запомнилась интересная живопись Жарких, Рухина, Белкина, Титова, они были со своим «лицом». Многие из нас к этому времени знали книгу Камиллы Грей «Русский эксперимент», мы могли учиться на эрмитажных импрессионистах, уже в шестидесятые листали каталоги современной живописи, попадавшие к нам разными путями с Запада. Мы увлекались Поллоком, к нам привозили выставку Ренато Гуттузо, из рук в руки передавались книги Рене Магритта и Сальвадора Дали. Так что, «андеграунд» семидесятых был, конечно, смелым прорывом смелых людей, вышедших на улицу, это был вызов системе, академиям соцреализма, чиновникам и идеологам из Минкульта, стукачам, следившим за каждым «формалистом». К 1974 году, когда прошла выставка в ДК им. Газа, многое уже вызрело в наших головах, а потому взрывная волна от «бульдозерной» выставки не спровоцировала революцию — она тихо и незаметно свершалась уже в конце пятидесятых, среди одиночек, таких как Кулаков, Биргер, Михнов… Они стояли особняком, у них была своя дорога. Путь их был тяжёл, часть их трудов пропала, сгорела, украдена, выброшена на помойку…
Те далекие и недолгие «оттепельные» годы закончились по-русски — зимней слякотью. И все же, появились художники, которые решили попробовать свои силы в чем-то для себя более близком, чем соцреализм. Но вот учиться в те годы новому пластическому языку было негде и не у кого. Что ж, в Ленинграде Академию современного искусства Фернана Леже заменил третий этаж Эрмитажа. Художники, те, которые рисовали не «как надо», а работали «за шкаф», мастерскими не владели, в основном жили бедно, в коммуналках. В комнатах, разделённых занавесками, был угол, выделенный под мастерскую, — вот и всё. Наверное, первыми единомышленниками, объединившимися в группу, были «стерлиговцы» в Ленинграде, а в Москве — «белютинцы».
Владимир Владимирович Стерлигов в двадцатые годы входил в круг Малевича, но потом отошел от него, и не только по сути, но и по судьбе. Он и его жена Татьяна Николаевна Глебова жили в бедности, состояли в ленинградском Союзе художников, но, несмотря ни на что, гнули (простите за тавтологию) свою линию. Малевич провозглашал прямую, Стерлигов — противопоставлял ей кривую. И так далее: квадрату — купол и чашу, разуму — чувство, логике — тайну, богоборчеству — богоискательство… Стерлигов выглядел как седовласый иссохший отшельник, а Глебова, напротив, — высокая, прямая, величественная благородная дама со строгими голубыми глазами. Они оба были глубоко верующими людьми, а Владимир Владимирович еще обладал прирожденным чувством учителя, наставника, он умел хорошо объяснять, и в те «академические» годы многие тянулись к нему.
Те, кто сплотился вокруг Стерлигова, стали его учениками и последователями. Среди них я помню П. Кондратьева, В. Волкова, Г. Молчанову, С. Спицина, А. Батурина. Все они рано или поздно были приняты в Союз художников, только Сашу Батурина долго мурыжили — оттого, что он «сидел» двадцать пять лет и не закончил Академии художеств. Ему все говорили, что он непрофессионал. Так и держали его на обочине этой общественной организации. В таком же положении оставался долгое время прекрасный художник Борис Крейцер, да и старика Альтмана держали как бы на антресолях, приучали нас его не вспоминать. Так что, когда в ЛОСХе наконец открыли персональную выставку Натана Исаевича Альтмана (почти предсмертную), и он вдруг появился на ней, маленький, совершенно такой же, как на портрете Юрия Анненкова, опираясь на руку уже немолодой, но по-прежнему красивой жены Ирины Валентиновны Щеголевой, я страшно удивилась, потому что была уверена, что он давно уже в могиле. Вся эта большая экспозиция, расположенная в центральном зале и на верхней галерее, не столько удивляла контрастами, сколько подтверждала двойственность человеческой души, жившей, как теперь принято говорить, «в наше сложное время».
Родители общались с семьей Томашевских. Отец познакомился с Борисом Викторовичем, знаменитым пушкинистом, когда рисовал иллюстрации к «Медному всаднику». Помню, что он даже писал его портрет и с улыбкой замечал: «На вид такой тихий, скромный бухгалтер, а заговорит — и перед тобой действительно великий знаток стиха». С его дочерью Зоей отец дружил, часто они вместе бывали в концертах, ходили друг к другу в гости. Я помню огромную квартиру Томашевских на канале Грибоедова, в знаменитом «писательском доме», полки книг, рояль, кожаные кресла, кабинет Бориса Викторовича, темная столовая без окон, в центре огромный стол, абажур и по всему периметру стены гравюра-панорама Петербурга. На столе всегда стояли чашки и печенье, оранжевый абажур никогда не засыпал, гости шли постоянно на его огонёк.
Это было в 1963 году, вечер, отец привел меня сюда на Светлой Пасхальной неделе. Вокруг стола сидело человек десять, возраст самый разный. Пасхальное угощение меня поразило, я видела подобную красоту впервые: несколько ароматных медового цвета куличей, несколько разных по цвету и украшению пасх, кутья (я тогда не знала, как она выглядит), тонкие ломтики ветчины и баранины, огромное блюдо с писанками (но какими!), водочка в графине и красное вино (из Гурзуфа)… Приглушённо из соседней комнаты слышалась музыка, пластинка с классикой. Шел оживлённый разговор, вдруг отец нагнулся ко мне и тихо сказал: «Видишь даму напротив… это Ахматова». Она сидела совершенно молча, участия в разговоре не принимала, казалось, никого не слышала, потом отпила немного вина из бокала, поправила тёмную шаль (а может, это была кофта?). И вдруг Зоя громко, очень громко обратилась к ней: «Анна Андреевна, хотите, я положу Вам кулича и пасхи?!». Меня этот резкий крик удивил, а Ахматова улыбнулась и кивнула головой. Потом я узнала, что она плохо слышит. Разговоры за столом стихли, а я от неожиданности не могла собрать мыслей… Прошло минут пять, звук посуды, вилок, ножей и стаканов опять перемешался с оживлённой беседой, но Ахматова в разговоре не участвовала. Один раз она нагнулась к своей соседке, пожилой красивой женщине, и что-то ей сказала. Это была Ирина Николаевна Томашевская.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: