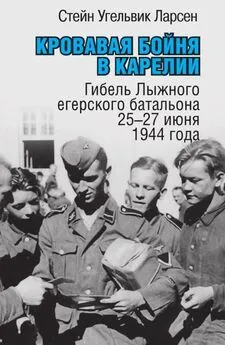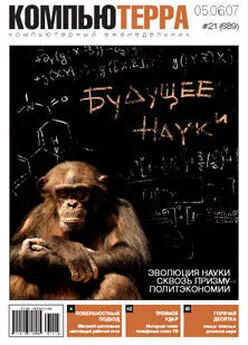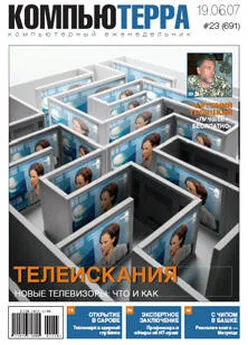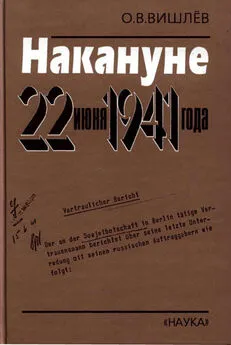Стейн Угельвик Ларсен - Кровавая бойня в Карелии. Гибель Лыжного егерского батальона 25-27 июня 1944 года
- Название:Кровавая бойня в Карелии. Гибель Лыжного егерского батальона 25-27 июня 1944 года
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2015
- ISBN:978-5-8243-2258-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стейн Угельвик Ларсен - Кровавая бойня в Карелии. Гибель Лыжного егерского батальона 25-27 июня 1944 года краткое содержание
Кровавая бойня в Карелии. Гибель Лыжного егерского батальона 25-27 июня 1944 года - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В письме в Министерство иностранных дел от 30 марта 1948 года норвежский военный атташе в Москве, полковник Йелле, писал, однако, следующее о работе, связанной с советским репатриционным ведомством в Москве: «Это, конечно, наш долг пытаться репатриировать всех норвежских граждан, которые являются военнопленными в Советском Союзе, однако есть одна категория, которая требует особого внимания – это хорошие норвежцы , которые попали в плен и по той или иной причине не были найдены… По сравнению с ними квислинговцы не имеют значения, что бы они ни писали нашим властям. Мой опыт при рассмотрении дел о репатриации говорит о том, что родственники квислинговцев (например, мать фронтового бойца Сундлу) часто бывают очень назойливы, в то время как родственники хороших норвежцев ведут себя скромно. Я считаю, что пора поставить все на свое место» (коробка 1516).
Таким образом, мы видим, какими были настроения среди части представителей государственного аппарата, что, наверное, влияло и на настроения населения. Война была жестокой, и после освобождения в воздухе долгое время витали мысли о реванше.
Однако родственники не теряли надежды, несмотря на позицию властей по этому вопросу. Было очень тяжело смириться с тем, что фронтовые бойцы пропали навсегда. Родные жили надеждой на хорошие новости, после того как репатриированные рассказывали о тех, кого они встречали в лагерях.
Известие о смерти сына не служило причиной для отказа от мысли о его возвращении домой. Так, одна мать из Осло писала 1 ноября 1953 года: «…я обращаюсь в Министерство иностранных дел… чтобы получить тело моего умершего сына, поскольку я не могу обрести покой, пока он не будет похоронен здесь. Сделайте, пожалуйста, все возможное. Может быть, его положили в гроб. Я не буду знать покоя, пока он не будет похоронен на своей родине, которую он любил больше всего» (речь идет о фронтовом бойце Георге Дое, родился 13 октября 1921 года; коробка 1516).
Контакты с Советским Союзорм осуществлялись главным образом через норвежское посольство в Москве и советских уполномоченных по делам репатриации. К концу осени 1945 года посольство собрало множество обращений, поступивших из различных мест, и передало список советским властям. Такая практика продолжалась и в последующие годы.
Работа с документами норвежского МИДа подтвердила мнение Ане Дален Рингхейм о том, что Министерство иностранных дел в первый год после войны «не знало, как будут реагировать советские власти, если включить в списки также и фронтовых бойцов. Может быть, такие запросы затормозят желание русских искать в лагерях других заключенных?»
В конце войны возникла острая потребность вернуть домой норвежцев, которые сидели в немецких концлагерях или были интернированы различным образом в советской оккупационной зоне в Германии. Это касалось в особенности военных заключенных, но также и других. В Советском Союзе в лагерях сидели также норвежские гражданские лица, попавшие по различным причинам во время войны в Советский Союз. Поэтому норвежское посольство в основном сосредоточилось на заключенных в Германии и гражданских лицах. Это было вполне понятно, несмотря на то что положение фронтовых бойцов было наихудшим.
В первые послевоенные годы из различных мест Норвегии поступали запросы. На одно из обращений, которое пришло в Министерство юстиции 23 января 1946 года, министр Оскар Гюндерсен ответил следующим образом: «Посольству Норвегии в Москве не следует предпринимать попыток по розыску и возвращению домой фронтовых бойцов». Однако постепенно ситуация менялась, и в 1947 году генеральный прокурор рекомендовал обосновать требование об отправлении домой фронтовых бойцов «желанием предать их норвежскому суду, чтобы они понесли наказание». В этом случае посольство могло обратиться к советским властям с просьбой разыскать фронтовых бойцов среди миллионов других заключенных, не рискуя «вызвать их раздражение».
Совершенно по-особому происходило возвращение последних фронтовых бойцов. В ноте от 25 февраля 1951 года, направленной в посольство Норвегии в Москве, было высказано требование, которое следовало удовлетворить, прежде чем будут отправлены домой последние десять фронтовых бойцов, местонахождение которых в лагерях теперь было установлено. Вскоре после этого пятеро бойцов были отправлены домой, но среди них не было бойцов Лыжного егерского батальона. Другие пять человек по-прежнему оставались в лагерях. «В обмен» на последних фронтовых бойцов Советский Союз хотел, чтобы норвежцы выдали пять человек из Прибалтики, которая была тогда оккупирована советскими войсками: Григория Васильева, Алексея Микалина, Федора Чистякова, Сена Шапаа и Франца Лиагаудаса (последний был из Литвы, его объявили умершим 30 июня 1949 года). Кроме того, советские власти утверждали, что все пятеро фронтовых бойцов были офицерами «ваффен-СС» и, следовательно, военными преступниками согласно приговору Нюрнбергского суда. Эта информация не соответствовала истине. Из пятерых бойцов лишь Сундлу имел звание унтерштурмфюрера (или лейтенанта). Данный аргумент был скорее использован как отвлекающий маневр, чтобы скрыть истинные цели «сделки по обмену». Было не совсем ясно, почему Советский Союз добивался выдачи этих прибалтийцев, но если бы это произошло, их судьба, несомненно, была бы печальной. Норвегия отклонила требование о выдаче.
Когда 30 октября 1947 года последние десять фронтовых бойцов уже были готовы к отправке первой группы, они получили сообщение о том, что их отправка домой отменяется. Можно представить себе, как они восприняли этот отказ после более трех лет, проведенных в советском плену.
Дания получила соответствующее предложение о выдаче 20 жителей Прибалтики в обмен на заключенных датских фронтовых бойцов и также отклонила это предложение. То же самое сделали Франция, Бельгия и Нидерланды. Только Люксембург пошел навстречу советским требованиям и отправил в Советский Союз нескольких военнопленных в обмен на своих заключенных (Дален, с. 127).
27 октября 1953 года норвежская военная миссия в Берлине сообщала следующее: «…семеро норвежских пленных прибыли на вокзал в советском секторе Берлина, где их можно забрать». Среди них были два фронтовых бойца из Лыжного егерского батальона – Гард Фриден (родился в Тронхейме 2 марта 1925 года) и Вольфганг Виндингстад (родился в Мольде 4 января 1926 года); трое из полка «Норвегия» – Ролф Лёвейд (родился в Осло 21 июня 1913 года), Кристиан Сундлу (родился в Мольде 6 января 1919 года) и Вильхельм Ворберг (родился в Ставангере 31 января 1918 года); кроме того, двое «гражданских заключенных» – Ранди Самуельсен (родилась в Тёнсберге 17 декабря 1923 года) и Отто Ларсен (родился в Киберге, Финнмарк, 27 июля 1912 года).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: