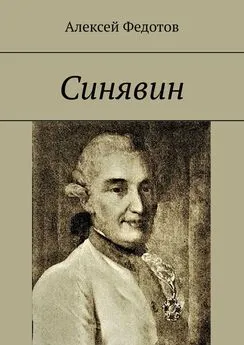Алексей Федотов - Воронцов. Книга I
- Название:Воронцов. Книга I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005919441
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Федотов - Воронцов. Книга I краткое содержание
Воронцов. Книга I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пока Михаил Семёнович лечился в столице, в Фокшанах вновь вспыхнула эпидемия чумы. Везде в селениях выставляли военные кордоны и дома окружали глубоким рвом. Больных солдат забирали в лазарет, который тоже был окружен рвом и караулом. Постели и платье больных позже сжигали, дома окуривали хлором, домашних животных убивали. Из лазарета выздоровевших после обмывания разведенной серной кислотой переводили в карантинный дом, где держали до 40 дней, затем подвергали вторичному « очищению » и только тогда отпускали как « неопасных ». Умерших хоронили далеко в поле, густо засыпая негашеной известью. Карантин накладывали на всё селение и выезд был разрешен только по специальным пропускам после 16-дневного заключения. Города разделяли на участки, в каждом из которых был смотритель и врач, ежедневно обходившие заражённые дома. Строения окуривали « перекисленной соляной кислотой », которую мешали с поваренной солью и другими связующими элементами. Врачам нашей армии были разосланы « Практические замечания о чуме, о болезнях жаркому климату свойственных и перемежающих лихорадках », составленные главным врачом Императора Яковом Виллие. Многие лечились молдавским народным средством, в состав которого входило: красное вино, икра рыб, лук и чеснок.
Граф Михаил Семёнович Воронцов из Петербурга прибыл в Бухарест, где встретился с уже больным главнокомандующим Николаем Михайловичем Каменским. Он так же заболел этой молдавской лихорадкой и его организм никак не принимал хинные порошки. Воронцов срочно отправил курьера в свой полк за качественным хересом, из которого делали лекарство. Он рассказал каким образом сам поборол эту болезнь. Здоровье 34-летнего Каменского ухудшалось, и он передал командование генералу Александру Ланжерону и больным отбыл в Одессу. Уже по пути Николай Михайлович лишился слуха, сильно кашлял с кровью и стал понемногу « сходить с ума ». Прибыв в город, был доставлен в госпиталь и его продолжили лечить, но всё оказалось напрасно. Генерал Каменский умер в Одессе в начале мая. Русский писатель и филолог Николай Иванович Греч так писал про его смерть: «…кончина молодого блистательного полководца опечалила всю Россию, но нельзя не видеть в этом грустном обстоятельстве милосердия Божия. Если бы Каменский кончил удачно кампанию с турками, он непременно был бы назначен главнокомандующим армией против французов, никак не согласился бы на выжидательные и отступательные действия, пошёл бы прямо на Наполеона, был бы разбит непременно, и вся новая история России и Европы приняла бы иной вид». Далее в апреле на эту должность был назначен Виленский военный-губернатор генерал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Прибыв в Молдавию, он нашёл всего 30 000 армию полностью в разбитом состоянии. Таким количеством солдат было невозможно победить турок, требовалось пополнить армию новобранцами и обучить их. С начала года в армию прибыло 26000 рекрутов из всех провинций страны. Император Александр был уже согласен на мир с турками « не нахожу, ни нужды, ни приличия довольствоваться иною границею нежели Дунай ».
В тот год 12 пехотная дивизия состояла из 3 бригад. В первой как раз и находился Нарвский пехотный полк вместе с Смоленским полком; вторая состояла из Алексопольского и Новоингерманладского полков; в третью входили Орловский егерский полк, и различные гренадёрские батальоны. Генерал-майор Михаил Воронцов был назначен командиром 3 бригады 12 пехотной дивизии, но оставался шефом Нарвского полка. Он написал своим подчинённым « Наставление господам офицерам Нарвского пехотного полка в день сражения» . Приведу этот текст с небольшими исключениями: « Ежели полку или батальону будет приказано стоять на месте фронтом под неприятельскими ядрами, то начальник роты обязан быть впереди своей роты, замечать и запрещать строго, чтобы люди от ядер не нагибались; солдата, коего нельзя уговорить от сего стыдом, можно пристращать наказанием, ибо ничего нет стыднее, как когда команда или полк кланяется всякому и мимо летящему ядру. Сам неприятель сие примечает и тем ободряется. Ежели начальник видит, что движением несколько шагов вперёд он команду свою выведет с места, куда больше падают ядра, то сие, ежели не в линии с другими полками, можно сделать, но без всякой торопливости. Назад же ни под каким видом ни шага для того не делать Старший офицер должен быть сзади роты, смотреть, чтоб раненых, которые не могут сами идти, отводили наряженные на то люди и чтоб здоровые отнюдь не выходили; убылые места 1 и 2 шеренги тотчас пополнялись из третьей. При движении фронтом вперёд, ротный командир должен идти впереди роты до начатия стрельбы. В колоннах же всегда быть в назначенном месте, как в учениях предписано… как скоро будут готовиться к делу, то вновь тщательно осмотреть все ружья, приказать ввернуть новые кремни, укрепив их как можно лучше, требовать, чтоб у солдат было по крайней мере ещё 2 кремня в запас, чтоб положенные 60 патронов были налицо и в исправности и так уложены, чтоб солдат, вынимая из сумы, в деле не терял оные, как то часто случается. Когда есть у людей новозаведённая картечь, то картечные патроны иметь особо от обыкновенных с пулями, буде есть карманы, то в оных или за пазухой, или в особом нарочно приготовленном мешечке. Картечь сия предпочтительно употребляется должна в разсыпном фрунте, в лесу, в деревнях, против кавалерии и особенно против неприятельских стрелков… Когда фронтом идут на штыки, то ротным командирам должно также идти впереди своей роты с ружьем или саблею в руке и быть в полной надежде, что подчиненные, одушевленные таким примером, никогда не допустят одному ему ворваться во фронт неприятельский… Когда неприятельский фронт сбит нашими штыками, тогда более всего нужно заняться офицерам в приведении тотчас фронта в порядок, и никак не позволять гоняться за убежавшей малой частью неприятеля из под штыков… Офицеру, командующему высланными перед фронтом стрелками, отнюдь без позволения полкового или батальонного начальника не двигать вперёд свои цепи; он обязан, ежели возможно по местоположению, скрывать своих стрелков, но самому быть в непрестанном движении по своей цепи, как для надзора за своими стрелками, так и за движениями неприятельскими. Против скачущей на него рассыпной кавалерии офицер, допустив её на 50 шагов расстояния, стреляет картечью, и видя, что сим не остановил стремление неприятеля, сбирается по знаку в кучи, как в полку учились. В сем положении стрелять ещё и приближающихся всадников колоть штыками… Полковой командир, подпустя кавалерию на 150 шагов, велит стрелять ружейною картечью. Ежели в это время полк был в колонне в атаке, то остановившись по единственной команде „строй каре“, выстроить оной, как в Борохове в последний раз показано было. В таком случае артиллерия остаётся вне каре в интервалах. Когда полку назначено будет защищаться в деревне или в неровном местоположении… скрывшись всегда лучше подпустить неприятеля ближе, чтобы у него первым выстрелом убить более людей, чем его всегда смешаем; офицерам не довольствоваться одною перестрелкою, но высматривать удобнаго случая, чтоб ударить в штыки с криком „ура“. Наш полк всегда славился отличными и храбрыми офицерами; не говоря про прежние ещё войны, в последней Турецкой во все время под Измаилом, потом под Базарджиком 16 и 26 числа, словом везде, где полк ни видал неприятеля, офицеры всегда вели нижних чинов по пути славы. Теперь больше нежели когда-нибудь нужно, чтобы они доказали, сколь репутация их справедлива и что ежели дух храбрости есть отличительный знак всего русскаго народа, то в дворянстве оной соединён с святейшим долгом показать прочим всегда первый пример, как неустрашимости, так и терпения в трудах и повиновения начальству… Надобно стараться видеть неприятеля как он есть, хотя он и силён, хотя он был и проворен и смел, но русские всегда были и будут гораздо храбрее, новозаведённая наша картечь в близкой дистанции тысячу раз лучше его пуль; про штыки же и не говорю, никто ещё никогда против русских штыков не удержался, надобно только дружно идти и пробивши неприятеля, не всем гнаться, а только некоторым, как то выше сего сказано… Господам офицерам в сраженьи крепко и прилежно замечать, кто из нижних чинов больше отличается храбростью, духом твердости и порядка, таковых долг есть вышняго начальства скорее производить в чины… офицер должен чувствовать в полной мере важность звания своего и что от него зависят поступки и поведение его подчинённых во время сражения. Когда он умел приобресть доверенность своих солдат, то в деле каждое слово его будет свято исполнено, и от него никогда люди не отстанут» 39 39 М. А. Российский «Очерк истории 3 пехотнаго Нарвскаго генерал-фельдмаршала князя Михаила Голицына полка». Стр.302. Москва 1904г.
. Это « Наставление » столь замечательно по своему духу, что даже в нынешние времена оно в чём-то актуально. Воронцов продолжил традицию наших великих героев полководцев Суворова, Кутузова, Багратиона и других. Последний, немного переделав его разослал по войскам перед смоленским сражением в 1812 году. Нарвский пехотный полк перешёл в руки полковника Андрея Васильевича Богдановского.
Интервал:
Закладка:
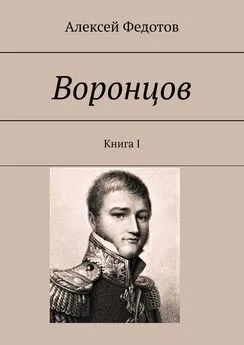

![Алексей Федотов - Клан потомков Дракона [litres]](/books/1055865/aleksej-fedotov-klan-potomkov-drakona-litres.webp)