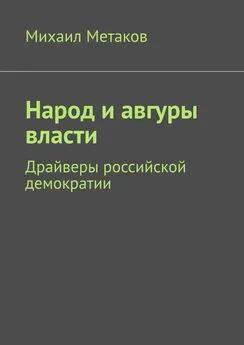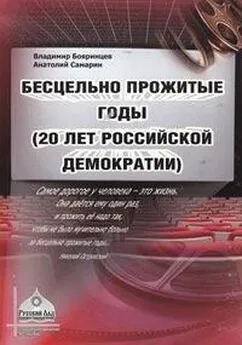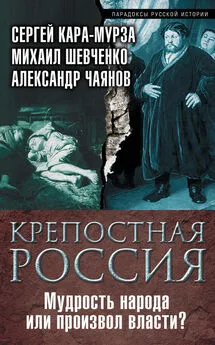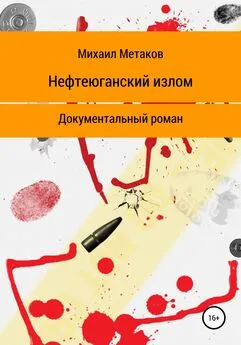Михаил Метаков - Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии
- Название:Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005651747
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Метаков - Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии краткое содержание
Народ и авгуры власти. Драйверы российской демократии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
_________
Что подвигло княгиню Ольгу через семьдесят пять лет после убийства вероотступника Аскольда и вокняжения язычника Вещего Олега в Киеве вспомнить о христианстве и принять столь важное и ответственное решение? Может, это было исполнением воли Рюрика и Олега в их стратегических замыслах построения централизованного государства? Или просто пришло время и созрели объективные условия для коренных перемен в устройстве жизни и сознании «людей в юности гражданских обществ», т.е. в Киевской Руси, о чем писал Карамзин, характеризуя Ольгу? И почему князь Игорь, а он, несомненно, был посвящен в стратегические планы государственного строительства на новгородско-киевских землях, назывался Игорем Старым? Нельзя исключать версию, что его так прозвали за устаревшие методы княжения и преданность языческим богам вместо обретения новой веры и новых возможностей в контактах с более развитым христианским миром…
Для справки . Академик Евгений Евсигнеевич Голубинский (1834—1912), авторитетный ученый, автор ряда фундаментальных исследований по истории русской церкви и церковной архитектуры, сыгравший важную роль в канонизации преподобного Серафима Саровского, отмечал, что к заслугам киевского князя Игоря Рюриковича относится и осознание прогрессивной роли христианства. Как минимум бесспорной остается его религиозная терпимость. Голубинский даже считал князя «внутренним», или тайным, христианином. К тому же текст договора с Византией 944 года содержит ряд сведений о том, что христианство на Руси в то время не просто существовало, а пользовалось определенным пиететом. Его адепты не только не подвергались притеснениям со стороны княжеской власти, но и принимали активное участие в политической жизни молодого государства. Более того, по мнению Голубинского сторонники христианства имели даже бóльшее влияние на общественные дела, нежели язычники. К слову, в Киеве с 944-го года функционировала Ильинская церковь, в которой присягали знатные христиане Древней Руси и греческие послы во время заключения русско-византийского договора и тогда еще некрещенная княгиня Ольга имела возможность наблюдать эту церемонию. Но как бы не обстояли дела в отношении христианства у правящей киевской элиты, все же основной религией того времени на Руси оставалось язычество. – (Из энциклопедических источников).
В любом случае, крещение княгини Ольги было далеко не спонтанным и беспричинным поступком. За этим – наверняка выстраданным и вызревавшим в течение многих лет – решением стояли уже по-настоящему государственные интересы и политическая воля высшего правителя прекратить хаос языческо-племенного многобожия, тормозившего процесс дальнейшего развития Киевской Руси как государства…
И действительно, в девятом веке, даже при существовании рудиментов военной демократии и пережитков первобытно-общинного строя – кровная месть, круговая порука, вече, вера во множество богов и т.д., начала складываться система феодальных отношений. Во главе «союза союзов племен», другими словами, федерации племен стоял великий князь киевский, при котором существовал совет из наиболее знатных и могущественных князей и бояр. Княжеские дружинники ведали сбором дани, податей, осуществляли суд, разбирали мелкие дела и пр. В города назначались специальные княжеские представители (посадники). В вассальной зависимости от князя находились его родственники, князья удельных земель, бояре, владевшие большими вотчинами и имевшие свою дружину. Основными производителями являлись свободные общинники, вспомогательной рабочей силой были холопы – лица, находившиеся в зависимости по форме близкой к рабству (при этом в Киевской Руси не было рабства в чистом виде как в других странах). Сформировалась преимущественно семейная структура сожительства людей. И что особенно важно – в девятом веке у славян появилась письменность.
Наряду с этим, наблюдая и сравнивая как устроена жизнь в соседних странах, Ольга не могла не желать взять лучшее из практики соседей и перенести этот позитивный опыт на родную землю. В феодальной Европе и Византии к тому времени пышным цветом цвели земледелие и скотоводство, развивалось ремесленное производство, формировались сословия и классы, складывалась система права и государственного законодательства. Поэтому посольско-дипломатическая активность киевской княгини, ее личное участие в заключении договора с Византией 944 года, попытки установить межгосударственные отношения с германским королем Оттоном Первым в 959-ом году, организация образцовой таможенной службы на своих границах и многое другое имело лишь одну цель – Ольга энергично стремилась модернизировать хозяйственный уклад в собственном государстве по лучшим зарубежным образцам. В этом контексте совершенно не случайно историк Карамзин при характеристике Ольги, упомянутой выше, отметил самое существенное: «Великие Князья до времен Ольгиных воевали, она правила Государством…».
Другое дело, что религиозно-политические интересы более развитых соседей прежде всего преследовали задачу подчинить Киевскую Русь и сделать ее своим безропотным вассалом – это обстоятельство, а также языческие пережитки серьезно тормозили приглашение мастеров-знатоков из христианских стран и импорт прогрессивных технологий. Княгиня Ольга надеялась прорвать эту блокаду своим публичным примером обращения в христианство, однако все было не так просто…
7
Чрезвычайно важным обстоятельством, которое мотивировало княгиню Ольгу показать личный пример в обретении христианской веры, было засилье реликтового язычества. Эта многовековая система дохристианских представлений о мире и человеке была официальной и доминирующей религией в древнерусском государстве. Даже после крещения Руси языческие традиции и верования продолжали оказывать значительное влияние на русскую культуру, традиции и жизненный уклад, что сохраняется и по сей день. Именно такому всеобъемлющему религиозно-ментальному монстру, покоящемуся на вековечном, невольном и рефлексивном сознании почти всех своих современников, бросила вызов необычная женщина, мать и княгиня Ольга. Верховной правительнице и вчерашнему главному глашатаю воли многоликих языческих богов пришло время доказать необходимость единобожия как одного из главных инструментов власти в манипулятивно-политическом обольщении подвластных народов и этносов…
Чтобы только приблизительно показать, что из себя представлял бастион многобожия, на штурм которого отважилась Ольга, сошлемся на сведения из Лаврентьевской летописи – одной из древнейших русских летописей и другие авторитетные источники. В них упоминается, что в киевском языческом пантеоне, поставленном внуком Ольги князем Владимиром в 980-ом году «на холме за теремным двором», присутствовали идолы богов Перуна, Хорса, Дажьбога, Стрибога, Симаргла (Семаргла) и Мокоши. Перун был верховным богом-громовержцем, славянским аналогом Зевса и Тора. Он считался покровителем княжеского рода, ему поклонялись в первую очередь в княжеско-дружинной среде. Хорс играл роль бога-солнца. Дажьбога, который тоже олицетворял солнце, некоторые специалисты отождествляют с Хорсом, полагая, что это два имени одного и того же бога. Стрибог был богом ветра, Семаргл, как полагают некоторые ученые, – богом растительности, земли и подземного царства. Единственной богиней в пантеоне Владимира была Мокошь, покровительница ремесел и плодородия. Археологические раскопки подтвердили – напротив княжеского двора на Старокиевской горе действительно стояло славянское капище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: