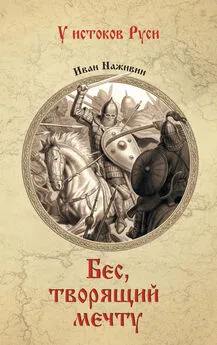Иван Наживин - Софисты
- Название:Софисты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ТЕРРА
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-300-00243-7, 5-300-00233-X
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Наживин - Софисты краткое содержание
Иван Федорович Наживин (1874—1940) — один из интереснейших писателей нашего века. Начав с «толстовства», на собственном опыте испытал «свободу, равенство и братство», вкусил плодов той бури, в подготовке которой принимал участие, видел «правду» белых и красных, в эмиграции создал целый ряд исторических романов, пытаясь осмыслить истоки увиденного им воочию.
Софисты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Я пойду за Ксантиппой… — тихо сказал Критон. — Теперь тут очередь за женщинами… Да… — тяжело вздохнул он. — Говорили, что род его идет от Дедала, от Икара, который с грешной земли устремился к солнцу и…
Он не докончил своей мысли и в сопровождении своего раба вышел. Там его встретили воплями.
— Ксантиппа, — сдерживая дрожь в голосе, сказал Критон. — Иди и приготовь его к погребению… А о себе и детях не беспокойся нисколько: я беру все на себя…
И распухшая от слез Ксантиппа, поняв, что все кончено, и сразу покорившись неизбежному, взялась с помощью соседок за погребальные хлопоты. Они обмыли Сократа, на голову его возложили по обычаю венок из зелени. По углам темницы поставили сосуды с благовониями, но на лицо маски не положили: на нем было выражение такого дивного покоя и величия, что просто руки не подымались закрыть его. В рот Сократу положили обол за перевоз Харону, а в руку дали кусок сдобного хлеба для Цербера — все честь-честью, как полагается у хороших людей. Потом в гроб ему положили — вероятно, обычай этот был заимствован у египтян, у которых он существовал с глубочайшей древности, — маленькие фигурки. В женские могилы греки клали только женские фигурки, а из божеств Афродиту, Эроса, Деметру, Афину-Нике, а в мужские — и мужские, и женские…
И среди тихого плача всех близких, земля в ночи — похороны всегда совершались, до восхода солнца — поглотила Сократа. На востоке уже слабо черкнула зорька золотисто-зеленая… И все молча разошлись по домам. На третий день все близкие снова пришли на могилу, затем на девятый и потом на тридцатый, и каждый раз делали возлияния, приносили усопшему погребальную трапезу — все чинно, хорошо, как у добрых людей полагается…
И грустное повествование о кончине старого чудака Сократа современный историк заканчивает не менее грустным, но вполне естественным замечанием: «Нигде и следа не встречается, чтобы афиняне пожалели когда-нибудь об осуждении Сократа». Это справедливо: в древних записях, действительно, такого сожаления не встречается нигде, но когда через друзей Сократа по Афинам распространился слух, что его последняя просьба к друзьям была о жертве Асклепию, — в Афинах Асклепий пользовался исключительным уважением — город зашумел:
— А как же, говорили, что он никаких богов не признавал? В последнюю, можно сказать, минуту он не о себе, не о семье думал, а о том, как принести жертву богу… Ох, и легковерные же мы ослы — любой прохвост нас за нос водить будет сколько хочешь и хоть бы тебе что!..
От обвинителей Сократа все отвернулись и поэтому раз в сумерки кто-то так ловко угодил поэту Анитосу тяжелым камнем между лопаток, что он слетел с ног и немало после этого прохворал. Облегчила его только ночь, которую он по указанию жрецов провел в храме Асклепия… После этого он стал еще злее нападать на память Сократа и вообще всяких болтунов, но часто встречал сердитые возражения:
— Мели, мели больше!.. Все знают, что Сократ всю жизнь приносил установленные жертвы богам и в храмах, и у себя дома даже… Много тоже вас тут, брехать-то!..
Но среди тревог, ставших уделом Афин в это время, все скоро совсем забыли и Сократа, и его недругов… Воскресили потом эту трагедию Ксенофонт да Платон, но оба неудачно: Ксенофонт по свойственной ему тупости, а Платон по свойственному ему богатству фантазии и любви к прекрасным фразам, которые сделали из доброго старика какого-то философа, почти полубога…
ХLIII. ГИМН ВЕЛИКОМУ НЕПОСТИЖИМОМУ
Эллада кипела смутой. В Элевзисе «правило» охвостье тридцати тиранов. Потом они объявили войну Афинам. Кто и как победил в ней, совершенно не важно: если бы победил не тот, а этот, результат был бы совершенно тот же, как если бы в Пелопоннесской войне победила не Спарта, а Афины, ничего в ходе жалкой истории рода человеческого не изменилось бы. Наконец, афинянам удалось заманить тиранов в ловушку и казнить. И они решили отблагодарить, наконец, тех, кто опрокинули олигархию: всем им был пожалован народом венок из дикой маслины, а кроме того, народ ассигновал целую тысячу драхм на памятник той сотне, которая под водительством Фразибула повела из Фил борьбу за освобождение народа от ига тиранов, и даровал право гражданства всем метекам, которые поддержали это дело в ночном походе Фразибула на Пирей и так далее…
Афины кипели внутренними неурядицами. Фукидит говорит, что «чем продолжительнее становилась борьба, тем более обнаруживалось вероломство и жестокость мести. Общепринятый смысл слов утратился. Хвастовство смешивалось с действительным достоинством, осторожность казалась трусостью, безрассудная отвага — мужественным самопожертвованием. Даже узы кровного родства были попираемы, и согласие между партиями, имевшими в виду не общий интерес, а удовлетворение личных честолюбии, поддерживалось только общностью преступлений». Извне на Элладу шли нападения с одной стороны могущественного Карфагена, а с противоположной — поднявшей вдруг голову Македонии, которая и прикончила вековую грызню всех этих смешных городков-государств, придавив их собою все, чего никак не могли достичь персы.
Сократ забывался все более и более, но немногие свято блюли память его. Идти без страха навстречу смерти, не имея надежды на небесное блаженство, вот что пленяло в нем людей, вот что вызывало их восхищение больше, чем его в общем довольно смутное и путаное учение. Так называемые ученики этого «болтающего оборванца», как называл его поэт Эвполис, потянувшие каждый в свою сторону еще при жизни старика, после его смерти расползлись еще дальше.
Больше всех них повезло, по-видимому, Платону. После смерти Сократа он до такой степени проникся отвращением к политике, что бросил ее совершенно. Первое время он жил в Мегаре, а потом отправился путешествовать в Египет, в Сицилию и прочее. Возвращаясь иногда в Афины, он любил беседовать в садах Академуса под Афинами со своими «учениками» и много писал, причем в писаниях этих он показывал себя то очень высоко парящим поэтом, для которого печальная действительность земли нисколько не обязательна, то настоящим гражданином агоры, для которого нисколько не обязательна высокая поэзия. Если в качестве высокого поэта он провозглашал, — это основная мысль его «Республики» — что самый несправедливый человек это человек самый несчастный, то в качестве гражданина агоры он советовал рабовладельцам никак не «баловать» своих рабов. Он утверждал, что всякий благомыслящий человек молит о помощи божество утром и вечером возлияниями, дымом благовонных курений и молитвой, и с большим ехидством и не всегда чистоплотно высмеивал всех тех, кто осмеливался думать по-своему и не соглашаться с ним. В споре с Тразимахом халкидонским, который проповедовал, что справедливость это то, что полезно сильнейшему и что поэтому для водворения порядка в государстве необходимо, чтобы справедливые и слабые повиновались правителям, дабы способствовать усилению их власти в борьбе с преступлениями несправедливых,. Платон доказывал, что если сами правители не принадлежат к числу справедливейших людей, то государство приходит в расстройство и общество перестает существовать, что, конечно, действительности нисколько не соответствовало. И в то же время он мог долгое время ломать голову над такими вопросами, например, как могут прекрасные вещи существовать с Красотой, не истощая ее, не разбивая ее на мелкие части… Ученые утверждают, что корни Платона идут за Сократа, в чертополох орфиков, а влияние его будто бы сказалось потом на первоначальном христианстве, тоже весьма сумбурном. Этому можно легко поверить. Это был двуликий Янус, который сам так до конца и не разобрал, какой же лик его настоящий… Потом он опять собрался в Сиракузы к тирану Дионису в надежде научить его, как жить и править по его, Платона, учению, но ничего с тираном у него не вышло: оказалось, что Дионис сам знает все нисколько не только не хуже любого философа, а даже и лучше, ибо не он искал расположения философов, а философы подмазывались к нему.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
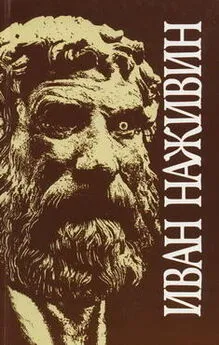
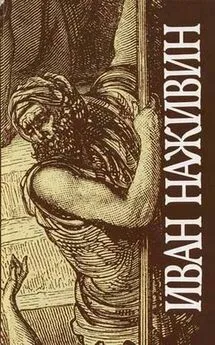
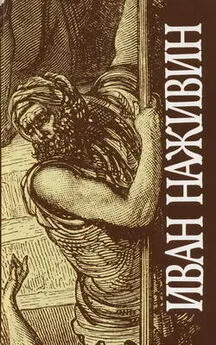
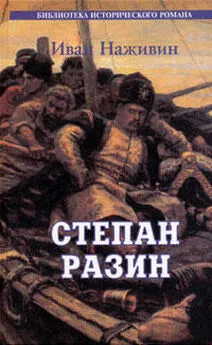
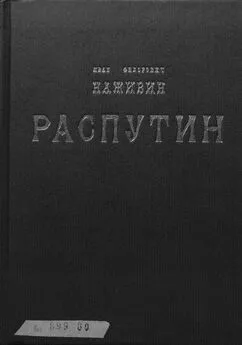
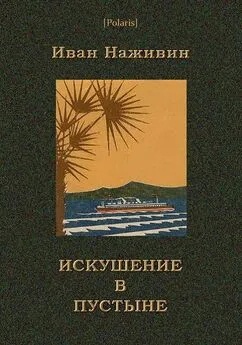
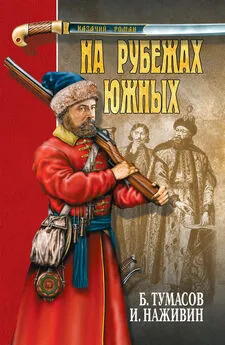
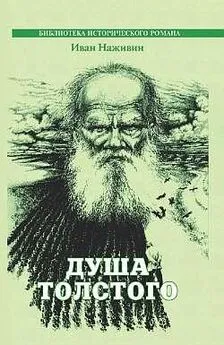
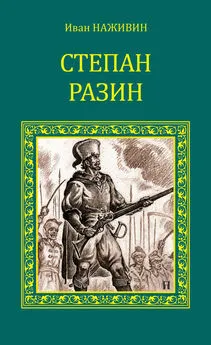
![Иван Наживин - Перун [Лесной роман. Совр. орф.]](/books/1068575/ivan-nazhivin-perun-lesnoj-roman-sovr-orf.webp)