Константин Симонов - Товарищи по оружию
- Название:Товарищи по оружию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Симонов - Товарищи по оружию краткое содержание
СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (15.11.1915, Петроград – 1979), писатель, поэт. Герой Социалистического Труда (1974), шестикратный лауреат Сталинской премии (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Сын офицера. Образование получил в Литературном институте имени М. Горького (1938). С 1930 работал слесарем. В 1931 переехал в Москву и поступил на авиационный завод. Затем работал техником в Межрабпомфильме. Печатался с 1934; первая поэма – "Павел Черный" (1938), прославлявшая-строителей Беломорско-Балтийского канала. В 1938 и 1950-54 редактор "Литературной газеты". В 1941-44 военный корреспондент газеты "Красная Звезда". В 1942 вступил в ВКП(б). В пьесах "Парень из нашего города" (1942), "Русский вопрос" (1946) и т.д. развивал тему человека на войне. Огромную известность ему принесла "военная лирика", среди которой такие стихи, как "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", "Жди меня", "Убей его" и т.д. Его произведение "Русские люди" удостоилось почетнейшего права быть опубликованным в газете "Правда". В 1944-46 главный редактор журнала "Знамя", с 1946 – газеты "Красная Звезда". В 1946-50 главный редактор журнала "Новый мир". В 1946- 54 зам. генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1946-54 депутат Верховного..Совета СССР. В 1952-56 член ЦК КПСС. В 1954-58 вновь возглавил "Новый мир". Одновременно в 1954-59 и 1967-79 секретарь правления Союза писателей СССР. В 1956-61 и с 1976 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В послесталинский период создал центральное произведение своего творчества – трилогию "Живые и мертвые" (1959-71), за которую в 1974 получил Ленинскую премию.
Товарищи по оружию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вот сволочи! Какие же сволочи! – повторял рыжий полковник, словно оправдываясь перед окружающими за то, что после всех своих разговоров о японцах вдруг прыгнул в окоп и спас пленного. – Ну, я пойду к себе, – наконец сказал он, протягивая руку Худякову, – как бы мои тоже какой-нибудь блиндаж не проморгали!
Он вылез из окопа и пошел по склону сопки, несгибаемый, плотный, внушительный, полная противоположность Худякову с его собравшейся горбом грязной шинелью и налезавшей на лоб слишком большой каской. Худяков еще в начале боев потерял фуражку и все время ходил в этой каске, не снимая ее.
– Товарищ командир полка, – сказал ординарец, подходя к Худякову.
– Да, – не выходя из задумчивости, отозвался Худяков.
– Фуражка, – скатал ординарец. – Я вам заказывал. Привезли из военторга.
Худяков посмотрел на фуражку, расстегнул брезентовый ремешок каски, снял ее, бросил у ног, все еще не беря из рук ординарца фуражку, устало потер затекшую от тяжелой каски шею и таким же усталым движением поерошил взад и вперед свалявшиеся волосы.
Ординарец продолжал держать фуражку в руках. Худяков наконец взял ее и, пощелкав пальцем по донышку, надел на голову, чуть заломив набок, отчего его невидная фигура в горбатой шинели приобрела неожиданную складность.
– Командира полка на провод! – подбегая, крикнул запыхавшийся связной.
Худяков вылез из окопа и пошел вслед за ним.
– Может, все-таки повернут на Ремизовскую? – глядя Худякову, тихо сказал Саенко Лопатину.
Оба прислушались. Сквозь шум ветра и шорох бешено летевшего по склонам песка со стороны Ремизовской сопки тяжелый гул артиллерии.
– Товарищ комиссар, – сказал стоявший поодаль какое-то начальство едет.
Саенко обернулся и увидел черную «эмочку». Держа направление на них, она упорно взбиралась по крутому склону сопки. Наконец шагах в пятидесяти она забуксовала, из нее вылезли Климович и Сарычев. Саенко пошел им навстречу.
У Сарычева был расстегнут воротник, а шея туго, под самый подбородок, обмотана бинтами. Он не мог нагибать голову, отчего его лицо приняло несвойственное ему надменное выражение.
– Приехал к вам забирать своих танкистов. – Сарычев повел негнущейся шеей в сторону Климовича: – Как он у вас тут работал? Не подводил?
– В донесениях указывали, – сказал Саенко.
– По донесениям знаю. А по душам?
Не щедрый на похвалы Саенко посмотрел на Климовича, подумал и сказал:
– Неплохо. Помогал.
– Это первый пункт, – сказал Сарычев. – А второй – насчет Баталова. Где будете хоронить?
– Еще не знаем точно. Наверное, возле медсанбата.
– Неправильно! – сказал Сарычев. – Надо его похоронить на Баин-Цагане. Рядом с танкистами, где вместе боевое крещение получали. Кончатся бои – поставим там, на горе, выбывший из строя танк. Пушкой в сторону Токио. Правильно? А, Климович?
– Жалко Баталова, – вместо ответа сказал Климович.
– Так как насчет похорон? – снова спросил Сарычев. – Если решаете, я завтра на Баин-Цаган делегацию своих танкистов пришлю.
– Хорошо, – сказал Саенко, – я сегодня согласую с политотделом дивизии.
– А что согласовывать? – недовольно сказал Сарычев. – Когда умираем, ни с кем не согласовываем. – Он помолчал и повернулся к Климовичу: – Поехали!
Саенко проводил их до машины. Машина попятилась назад, развернулась и понеслась вниз по склону. Провожая ее глазами, Саенко вспомнил слова Сарычева: «Умираем – не согласовываем», – и подумал о том, что когда он у себя на Полтавщине, в Потоках, еще только вступал в сельскую комсомольскую ячейку, командир эскадрона Сарычев уже ходил с Первой Конной на Львов, а красноармеец Баталов воевал против эмира бухарского. Деревянная пирамидка, которую он повезет завтра на могилу Баталова, уже, наверное, изготовлена в хозчасти полка. Осталось только составить надпись…
«Вот и вся недолга! Жалко, что мы в тот свет не верим», – горько усмехнулся Саенко.
Глава четырнадцатая
Артемьева вдруг вызвал к себе полковник Постников л сообщил ему, что с сего числа, 28 августа, он отчислен из оперативного отдела и переведен в разведывательный. Этого можно было ожидать: уже с третьего дня наступления Артемьев фактически работал в разведотделе, занимаясь разборкой и переводом захваченных документов.
Документов было так много, что разведывательный отдел задыхался, и за переводы постепенно засадили не только Артемьева и двух политотдельцев, но даже одного военврача, владевшего японским.
Вопрос о переводе Артемьева был предрешен, по, отпуская его, Постников все-таки выразил свое неудовольствие.
– За два месяца я пришел к убеждению, что из вас мог бы выйти толк, – сказал он ворчливым, поскрипывавшим, как сапоги, голосом.
В похвале звучало сомнение: выйдет ли из Артемьева толк под руководством другого, менее требовательного начальника, чем Постников?
– К сожалению, я был принужден отпустить вас, потому что, к сожалению (второе «к сожалению» Постников произнес с язвительным нажимом), у нас в армии со знанием иностранных языков дело обстоит так плохо, что, оказывается, держать в оперативном отделе человека, споено знающего японский язык, – непозволительная роскошь. Оказывается, таких людей у нас не хватает даже для разведотделов. Когда придет время подвести итоги операции, я буду докладывать, в частности, и об этом. Мы уже сейчас испытываем неудобство, и если не возьмемся за ум, то еще хватим горя в большой войне.
По необычному многословию Постникова Артемьев понял, что тот раздражен; должно быть, имел неприятное объяснение с начальником штаба и, подчинившись, остался при своей точке зрения.
– Желаю всего наилучшего. Служите! – сказал в заключение Постников. – У Шмелева характер полегче моего, но вы этим не пользуйтесь, продолжайте служить так, словно у вас по-прежнему стоит над душой такой старый унтер, как я.
Артемьев покраснел. Молодые командиры оперативного отдела именно так и величали между собой Постникова. Но Постников оказался выше этого и тиснул ему на прощанье руку с доброжелательством человека, равнодушного к тому, что о нем говорит между собой молодежь, – лишь бы служила так, как того требует служба.
Простившись с Постниковым, Артемьев пошел в разведотдел. Длинная палатка разведотдела походила снаружи на госпитальную. Внутри стояли пять больших столов и столик машинистки, которая дежурила по целым дням и в перерывах между диктовками дремала, склонясь на машинку и подложив под щеку специально припасенную для этого подушку.
Вчера все, в том числе и Артемьев, работали до пяти утра; однако Постников, не привыкший считаться с такими вещами, велел поднять Артемьева в семь. Поэтому, когда Артемьев вошел в палатку, там еще никого не было.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
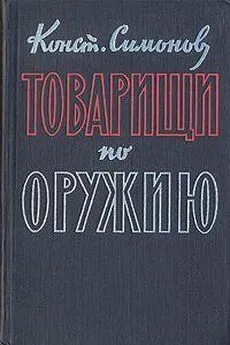


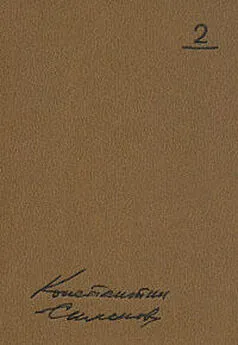


![Константин Симонов - Товарищи по оружию [сборник]](/books/1062674/konstantin-simonov-tovarichi-po-oruzhiyu-sbornik.webp)
