Константин Симонов - Товарищи по оружию
- Название:Товарищи по оружию
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Симонов - Товарищи по оружию краткое содержание
СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (15.11.1915, Петроград – 1979), писатель, поэт. Герой Социалистического Труда (1974), шестикратный лауреат Сталинской премии (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Сын офицера. Образование получил в Литературном институте имени М. Горького (1938). С 1930 работал слесарем. В 1931 переехал в Москву и поступил на авиационный завод. Затем работал техником в Межрабпомфильме. Печатался с 1934; первая поэма – "Павел Черный" (1938), прославлявшая-строителей Беломорско-Балтийского канала. В 1938 и 1950-54 редактор "Литературной газеты". В 1941-44 военный корреспондент газеты "Красная Звезда". В 1942 вступил в ВКП(б). В пьесах "Парень из нашего города" (1942), "Русский вопрос" (1946) и т.д. развивал тему человека на войне. Огромную известность ему принесла "военная лирика", среди которой такие стихи, как "Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины", "Жди меня", "Убей его" и т.д. Его произведение "Русские люди" удостоилось почетнейшего права быть опубликованным в газете "Правда". В 1944-46 главный редактор журнала "Знамя", с 1946 – газеты "Красная Звезда". В 1946-50 главный редактор журнала "Новый мир". В 1946- 54 зам. генерального секретаря Союза писателей СССР. В 1946-54 депутат Верховного..Совета СССР. В 1952-56 член ЦК КПСС. В 1954-58 вновь возглавил "Новый мир". Одновременно в 1954-59 и 1967-79 секретарь правления Союза писателей СССР. В 1956-61 и с 1976 член Центральной ревизионной комиссии КПСС. В послесталинский период создал центральное произведение своего творчества – трилогию "Живые и мертвые" (1959-71), за которую в 1974 получил Ленинскую премию.
Товарищи по оружию - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Лучше некуда!
– А закусил?
– Спасибо за нее. Уже собрался, – думал, вообще тебя не увижу.
– А ты оставайся, заночуй!
– Рад бы, но, к сожалению, Шмелев назначил явиться к двадцати трем. – Артемьев подтянул осевшие гармошкой сапоги. – А тебя чего тягали в штаб?
– Че-пэ, – сказал Климович. – У соседа зачехлили одну грязную пушку, а командование сделало далеко идущие выводы, что народ после боев подразвинтился.
– Да, трудно привыкнуть, что все постепенно входит в мирную колею, – сказал Артемьев.
– А по-моему, мирной колеи вообще уже не будет, – сказал Климович, выходя вместе с ним из палатки.
– Где не будет?
– Да нигде не будет!
– Вообще-то, может, и так. Я имел в виду наши здешние дела.
– Жаль, что не заночуешь, поговорили бы! – огорчился Климович.
– Эх, Костя, Костя! – вздохнул Артемьев. – Сам знаешь, нет войны, да есть служба. Надо ехать.
И он постучал кулаком по броне связного броневичка, в котором, запершись от комаров, заснул водитель.
Ровно в двадцать три часа, стоя перед Шмелевым, Артемьев выслушал приказание: вылететь на рассвете в Читу, забрать семьдесят девять японских пленных, лежавших в читинском госпитале, и послезавтра доставить их на место взаимной передачи – на полевой аэродром, в нейтральной зоне, за высотой Палец.
В Читу Артемьев летел вместе с Лопатиным, которого он неожиданно увидел, когда влез в полупустой самолет. Лопатин, забравшись туда заранее, сидел и спал, выдвинув на лоб фуражку, обернув ноги плащ-палаткой и подняв воротник шинели так, что был виден только его посиневший от холода нос.
Он не проснулся ни при взлете, ни потом, когда самолет набрал высоту и стало еще холодней. Только через три часа, когда под крылом зазеленели сопки Забайкалья, он, не открывая глаз, вдруг снял толстые шерстяные перчатки, порылся в карманах, достал коробку «Борцов», закурил и снова надел на руки перчатки.
– Я уж думал, что вы без просыпу до посадки дотянете. Осталось всего ничего! – скалил Артемьев.
– А, рад вас видеть, – поворачиваясь к нему, равнодушно скалил Лопатин. Он отвратительно выглядел: глаза глубоко запали, лицо совершенно зеленое.
– Что это с вами? Заболели?
– Точней говоря, рассыпался на составные части. Рецидив малярии и приступ печени все сразу. – Лопатин поднес ко рту папиросу задрожавшими пальцами в шерстяной перчатке. – Я не болею, пока категорически не могу себе этого позволить, и сразу заболеваю, едва открывается малейшая возможность. Глупейшая история!
– Ну, а если на западе в дальнейшем развернется что-нибудь такое, что не позволит вам болеть? – спросил Артемьев.
– А что там может еще развернуться? Судя но сегодняшней сводке Генштаба, с освобождением Западной Белоруссии и Украины закончено, почти всюду вышли на демаркационную линию. Столкновения с немцами не произошло. И теперь уже, думаю, не произойдет.
– Вы так сказали, словно жалеете об этом!
Артемьев заметил это полушутя, но Лопатин ответил серьезно и даже сердито:
– Жалею? Нет! Но если я вам скажу, что при мысли о такой возможности мною владеют очень противоречивые чувства, – это будет близко к истине!
Через полчаса самолет сел в Чите. Обменявшись с Лопатиным московскими адресами, Артемьев отправился в госпиталь – принимать раненых японцев.
В два часа дня самолеты с пленными – одна пассажирская машина и три бомбардировщика – взлетели с читинского аэродрома.
Сначала Артемьев предполагал, что они полетят прямо в Тамцак-Булак, но уже в воздухе было получено радио, чтобы само, лоты легли западнее по курсу и сели на ночевку в удаленном от границы Ундур-Хане.
Командир пассажирского корабля, передав управление второму пилоту, подсел к Артемьеву и сказал, что маршрут изменили, чтобы вся трасса лежала вне досягаемости японских потребителей.
– А что, вполне возможная вещь! Провокации ради долбанули бы своих же раненых, а потом свалили на нас, что мы их разбили. Завтра «ястребки» с утра встретят нас в зоне и прикроют до самой посадки.
– Сколько просидим в Ундур-Хане? – спросил Артемьев.
– Часов двенадцать как минимум. Японцев разместил в два счета: казармы танковой бригады пустые, дадут любую! Еще и поужинаем и кино прокрутим, если механик на месте.
Летчик вернулся в кабину. Артемьев вспомнил вчерашнюю встречу с Климовичем и решил, что, если при размещении раненых не будет проволочек, он выберет время и зайдет к жене Климовича. Конечно, она получает от мужа письма, но он видел Климовича всего сутки назад.
Проводить Артемьева на квартиру Климовича взялся техник интендант из АХО штаба бригады.
Маленький, кругленький, в тропической панаме, с черными запятыми усиков на простодушном круглом лице и с наганом на боку, техник-интендант старался держать себя как можно суровей. Размещая японцев на ночлег, он то и дело бдительно посматривал на них, будто они могут сейчас встать и убежать.
– Вы ведь ненадолго идете? – на полпути к квартире Климовича спросил техник-интендант. – А то ужин будет готов к двенадцати ноль-ноль. У меня приказ – значит, все! – На его толстеньком лице изобразилась строгость.
– Ненадолго, – подтвердил Артемьев и сказал, что он, собственно говоря, с женой Климовича даже и незнаком и не имеет к ней никакого поручения от мужа, потому что не предполагал, что окажется на Ундур-Хане, но раз уж попал сюда, хочет зайти.
– Ну и правильно! – одобрил техник-интендант. – Наш комиссар прилетал сюда сразу после боев, три недели назад, – собирал в клубе семьи комсостава, рассказывал им о бригаде. Трудная была задача – потери в личном составе большие, без слез, конечно, не обошлось… Но комиссар ничего, справился, хоть и недавно у нас, покадровый. – Техник-интендант проговорил последнюю фразу чуть-чуть свысока.
– А что там теперь считаться – кадровый, некадровый: бригада вон сколько из боев не выходила! Теперь у вас все – кадровые, – сказал Артемьев.
Технику-интенданту показалось, что Артемьев нарочно сказал про бои, чтобы поставить на место его, просидевшего все это время в Ундур-Хане. Он насупился, целый квартал молчал, но потом не выдержал и стал рассказывать Артемьеву, что знаком с Климовичем давно, с Белоруссии, и даже помнит, как Климович женился на своей Любови Васильевне – она тогда работала вольнонаемной машинисткой в штабе корпуса в Бобруйске.
Люба гуляла с Майей после обеда вдоль маленького чахлого палисадника перед их домом. Несмотря на все старания Любы и Русаковой, в этом году лето почти все выжгло, – только крученый паныч, семена которого еще зимой пристали покойному Русакову, поднимался по веревкам до самых окон да выжившие кусты золотых шаров желтели на фоне беленой стены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
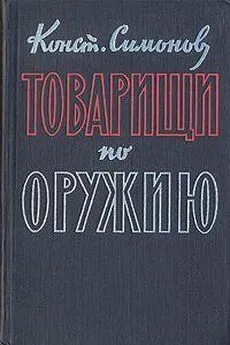


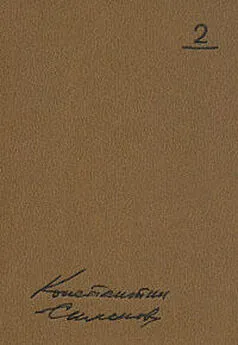

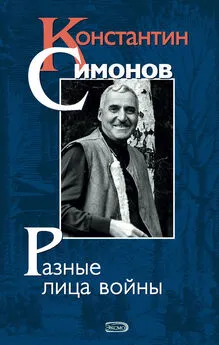
![Константин Симонов - Товарищи по оружию [сборник]](/books/1062674/konstantin-simonov-tovarichi-po-oruzhiyu-sbornik.webp)
