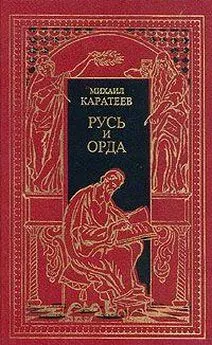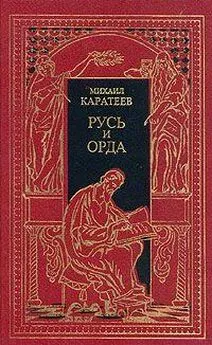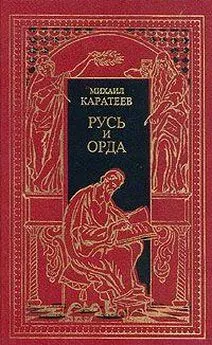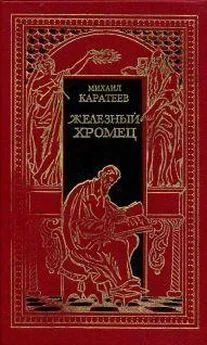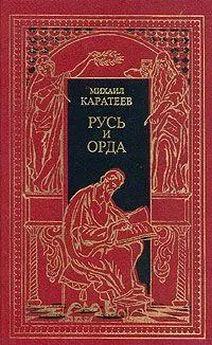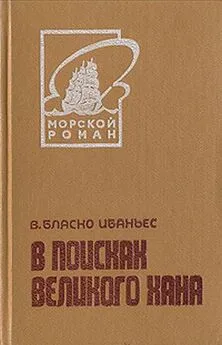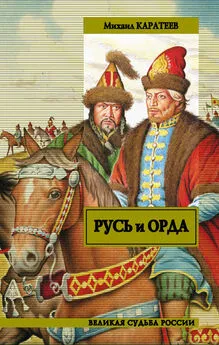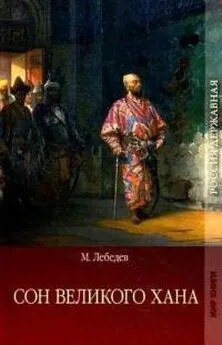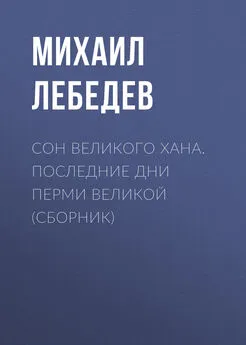Михаил Каратеев - Ярлык Великого Хана
- Название:Ярлык Великого Хана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Каратеев - Ярлык Великого Хана краткое содержание
В 1958 году, в Буэнос-Айресе, на средства автора, не известного в литературном мире, вышел тиражом в тысячу экземпляров исторический роман «Ярлык великого хана», повествующий о жестоких междоусобицах русских князей в пору татаро-монгольского ига, жертвой которых стал молодой князь Василий Карачевский. Впрочем, немногие из читателей, преимущественно земляков, могли вспомнить, что Каратеев уже печатался как очеркист и выпустил документальные книги о судьбе русских эмигрантов на Балканах и в Южной Америке. Аргентина (заметим, как и весь субконтинент) считалась, и, вероятно, не без оснований, некоей культурной провинцией русского зарубежья. Хотя в результате второй мировой войны, по крайней мере вне волны повторной эмиграции – из Китая и Балкан (с их центрами в Харбине и в Белграде) – выплеснулись широко, от Австралии до Южной Америки, литературными столицами по-прежнему оставались русский Париж (правда, заметно ослабевший) и русский Нью-Йорк (во многом усилившийся за его счет). Поэтому удивительно было появление в далеком Буэнос-Айресе романа М. Каратеева, вызвавшего восторженные отклики критики и читателей в тех русских диаспорах, куда он мог попасть при скромности тиража...
Ярлык Великого Хана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Богатство ордынца измерялось главный образом количеством его коней. У каждого рядового воина их было не меньше двух, у начальников, даже невысоких, они исчислялись табунами. Великолепная татарская лошадь, резвая и выносливая, давала кочевнику почти все, что ему было нужно: еду, питье, жилище, средство передвижения, залог победы над врагом и возможность грабежа. Излишки своего конского поголовья Орда продавала в Индию.
Конечно, Сарай производил множество всевозможных товаров и изделий отличного качества, поступавших как на внутренний, так и на внешний рынок. Но все это делалось руками огромного количества ремесленников-рабов, которых татары тщательно отбирали в покоренных ими землях и отправляли в Орду. Среди них было немало людей исключительно высокого мастерства. Так, например, русский золотых дел мастер и резчик по кости, Кузьма, из Сарая был специально вызван в монгольскую столицу Каракорум, где сделал императору Гунж-хану трон из слоновой кости и золота, долго изумлявший всех непревзойденной тонкостью своей работы. Труд искусных умельцев в Орде хорошо оплачивался, обычно все она быстро выкупались из рабства, имели в Сарае свои дома и достигали благосостояния, иногда, по-видимому, значительного. Но свидетельству католического прелата Плано Карпипи,– главы посольства, которое папа Иннокентии Четвертый отправил к Гунж-хану, – этот самый русский мастер Кузьма, находившийся в то время в Каракоруме, приютил у себя и более месяца содержал на свой счет папское посольство, ожидавшее приема у императора.
Простых ремесленников селили в Сарае отдельными кварталами, распределяя их по отраслям мастерства и вовсе не считаясь с национальностью. Были отдельные кварталы и улицы кузнецов, оружейников, шерстобитов, кожевников, медников, гончаров, ткачей, резчиков я других. В каждом из таких ремесленных центров были свои торговые ряды, кроме того, в городе имелась огромная площадь для общих базаров. Дома более зажиточных людей и знати были выстроены из камня, жилища ремесленников – из самана и глины. По мере удаления от центральной части столицы к ее окраинам улицы становились все уже и грязнее, дома лепились все теснее Друг к другу. Садов в Сарае не было вообще, он был совершенно лишен каких-либо признаков зелени. Посреди города находился большой, искусственно сделанный пруд, но вода в нем была загрязнена и для питья не годилась. За исключением высшей знати, имевшей водопроводы, все население города вынуждено было питьевую воду возить из Волги или покупать на улицах у водовозов.
Татары медленно и с трудом привыкали к оседлой городской жизни. Едва лишь наступало тепло,– все монгольское население города, включая и самого великого хана, выкочевывало в юрты, шатры и кибитки, которые по обоим берегам Волги покрывали все видимое глазу пространство вокруг столицы. В течение целого лета огромный город казался наполовину вымершим, и только лишь с наступлением осенних холодов кочевники постепенно возвращались в свои дома, да и то не все: многие оставались зимовать в юртах, по ту сторону городского вала.
Привычка к походным условиям жизни была у татар так сильна, что некоторые ханы, включая и Батыя, на зиму приказывали в одном из залов своего дворца устанавливать шатер, в котором и проводили большую часть времени.
Глава 19
А пошлины ему, Феогносту-метрополиту, платить не падобе, ни подвод, ни кормов, никаков дар ни почестия не воздавать никоому, А земель его, ни вод, ни огородов, ни садов, ни мельниц, ни людей его ни кто да не заимеет, ни истомы творит, ни возьмет у них ничего. И кто того не соблюдет, смерти да побоится. А ты, Феогност-метрополит, за нас молитвы Богу воздавай. Царица Тайдула, из ярлыка , данного ею митрополиту Феогносту в 1351 г.
По прибытии в Сарай княжич Святослав прежде всего отправился в русский квартал, разыскал там брянского купца Зернова, с которым Тит Мстиславич вел кое-какие торговые дела, и при его содействии в тот же день нашел вполне приличное помещение для себя и своих людей.
Это был небольшой каменный дом, в средней части города, с двориком и сараями, в которых удалось разместить слуг и лошадей. Сам Святослав Титович и сопровождавшие его пожилой сын боярский Степан Колемин, вместе с привезенными дарами, поместились в двух низких, но просторных горницах дома. Их убранство непритязательному козельскому княжичу показалось даже роскошным: полы и стены почти сплошь были закрыты пестрыми коврами, на широких и низких диванах лежало множество шелковых подушек, а на стоявших по углам резных деревянных этажерках была расставлена узорчатая керамика, бронзовые светильники и малахитовые безделушки. Круглые полированные столы возвышались над полом едва на четверть,– за ними ели сидя на подушках, прямо на полу, поджав под себя ноги.
Но что в зимнюю пору было едва ля не самым важным,– в одной из горниц имелось отличное отопление: это была сложенная из камня печь, от которой дым и горячий воздух проходили по широкому глиняному дымоходу вдоль внутренних стен. Только лишь при виде татарского топлива Святослав брезгливо поморщился: дрова тут стоили чрезвычайно дорого и почти все дома отапливались аргалом.
Помывшись в бане у купца Зернова и отоспавшись после утомительного путешествия, княжич приоделся а отправился к местному православному епископу, чтобы завязать полезное знакомство, а заодно разузнать кое-что о характере хана Узбека, придворных порядках и приближенных к хану лицах, посредничеством которых можно было бы воспользоваться. О цели своего приезда он решил, до поры до времени, распространяться как можно меньше.
Владыка Даниил, епископ сарайский и подольский, был еще не старый человек, высокого роста и представительной наружности. Его проницательные, светящиеся умом глаза, казалось, просматривали собеседника насквозь. Оп был ставленником великого князя московского, Ивана Даниловича, а последний умел подбирать людей, особенно для таких ответственных мест, как ханская ставка, куда все соперничающие русские князья приезжала с жалобами друг на друга, а чаще всего на самого Ивана Даниловича. При том неизменном уважении, которым пользовалось у татар русское духовенство, сарайский епископ в глазах хана имел порядочный вес и часто своими силами мог защитить в Орде интересы московского князя. Если же случай того требовал, он своевременно оповещал Москву.
*Аргал – кизяк, плитки из высушенного взвоза.
Епископ принял княжича несколько настороженно: он знал, что русские князья в Орду зря не приезжают. Однако, когда Святослав, назвавши себя, подошел под благословение, почтительно поцеловал ему руку и от имени отца своего просил принять в дар массивную золотую чашу для сарайской епархиальной церкви, – владыка смягчился, а из дальнейшего разговора понял, что это сравнительно мелкий проситель, не имеющий никакого отношения к московским делам. Он благосклонно вступил в беседу с козельским княжичем и несколькими ловко поставленными вопросами прижал его к стене: Святославу стало ясно, что нужно или развязывать язык, или стяжать недоверие владыки и лишить себя его возможного содействия. Почти без колебания он избрал первое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: