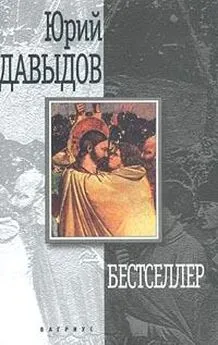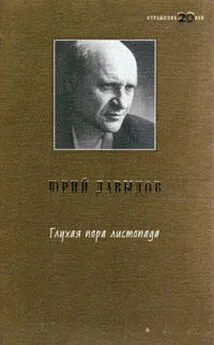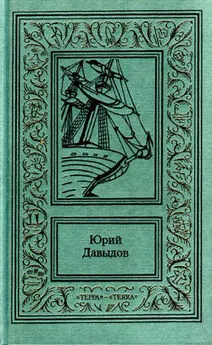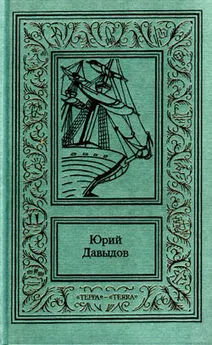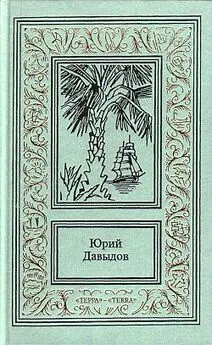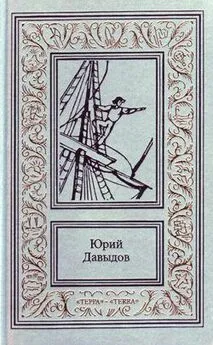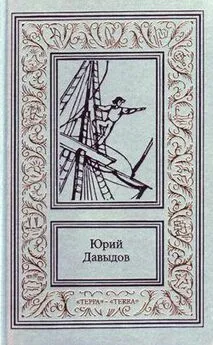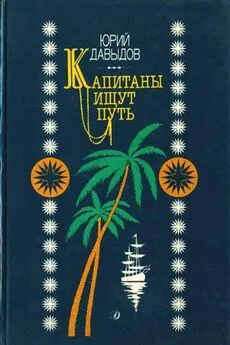Юрий Давыдов - Бестселлер
- Название:Бестселлер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-264-00665-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Давыдов - Бестселлер краткое содержание
«Бестселлер» – гармоничный сплав превосходно проработанного сюжета и незаурядного стилистического мастерства. В центре романа – фигура знаменитого Владимира Бурцева, заслужившего в начале минувшего столетия грозное прозвище «охотник за провокаторами», а среди героев – Ленин, Сталин, Азеф, Малиновский, агенты царской охранки и профессиональные революционеры. Кто станет мишенью для «охотника» в его борьбе за моральную чистоту рядов «грядущих преобразователей России»? И что есть вообще феномен предательства и для отдельной личности, и для страны в целом?
Бестселлер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чертовски трудные, путаные размышления достались вчерашнему адвокату, а ныне труженику советской юстиции. Штука-то в том, что первым же декретом Власть Советская упразднила весь корпус прежней российской законности. Добро бы началась новая, советская. Так нет, велено было принять к руководству «революционную целесообразность». А поди-ка сообрази, что оно такое. Ой, дети мои, надо было поглядеть на расстеряно-суетливого человека, страдавшего конъюнктивитом, когда он, собирая на лбу страдальчески-недоуменные морщины, старался примирить привычки своего юридического мышления с разъяснениями этой «целесообразности»: не ищите доказательств действий делом или словом против Советской власти; определяйте, к какому классу принадлежит обвиняемый, какого он происхождения, образования, профессии. Ответы на эти вопросы и определяют судьбу обвиняемого.
Увы, Беклемишев не решался «типизировать» Бурцева, о котором Горький напечатал: стыдно демократии держать Бурцева в тюрьме. Правда, демократия приказала долго жить, но все же Бурцев – это ж Бурцев. Правда и то, что на вопрос о Бурцеве ответил Троцкий, вскидывая голову (при этом Беклемишев заметил, какие у Льва Давидовича кругленькие смородинки-ноздри), в том смысле ответил, что этому клеветнику отныне и пикнуть не дадут. Бурцев утверждает, что он журналист, и только. А журналист – буржуазия, что ли? Образование университетское. Свой брат, универсант. Да и происхождением из обер-офицерских детей. Спрашивается, какую, собственно, «целесообразность» применить, дабы и пикнуть не мог? Непонятно, что ли, господа присяжные заседатели! Беклемишев не был дальнего ума, но и не был ума столь короткого, чтобы не смекать, в чем главное виноват-то арестованный Бурцев, – не он ли ежедневно в своей газете предупреждал о большевистском перевороте, не он ли обвинял заговорщиков в получении кайзеровских субсидий… По линии клеветы пустить, что ли? Опять же вопрос: клевета, она в какую целесообразность вписывается?
Следственная комиссия при Петроградском совете не была единственной в своем роде. Были и другие в том же роде. И под началом Бонч-Бруевича. И под началом тов. Дзержинского. Бывший присяжный и туда стопы, и сюда стопы. Отвечают: обвинительных материалов не имеется.
А на нет, говорят, и суда нет. Так, но «целесообразность»-то есть? И пребудет. А все равно Беклемишеву все ясно, ан дело темно.
Бурцев при встречах возвышает голос: судите меня! Я брошу большевикам в лицо: германец не сегодня – завтра вломится в Петербург, и вы, иуды, запоете: Ах, майн либер Августин, Августин, Августин.
Послушайте, В. Л., есть люди, готовые взять вас на поруки. В. Л. прикладывал руку к сердцу: благодарю, но откажусь.
– Но почему же, почему? – уныло вопрошал Беклемишев.
Его уныние и злило, и веселило Бурцева. Он сказал, что взятье на поруки отнимет самое желанье совершить побег. И пуще веселясь, прибавил: а есть «метода», предотвращающая нелегальное сокрытие от властей. Беклемишев отозвался междометием, оно озвучивало выраженье глаз: недоумение и недоверие.
Не крупней бекасинника был Беклемишев, дроби, что бьет по мелкой дичи. А вот начальник лагерного пункта у нас, в Вятлаге, сам пошел на то, чего Беклемишев не уловил в намеке Бурцева.
Майор, начальник 16-го иль 31-го, телеги все готовил зимнею порой. В тот год ему хотелось что-то там наладить по электрочасти. По этой части от «а» до «я» умел и знал Данильченко, зек старый. Я говорил о нем. Да вы наверняка забыли. Не тушуйтесь, я сам три четверти не помню… Но как забыть Данильченку? Он жене, не отвечавшей ни письмишком, упрямо сообщал: пришли-ка мне очки, я тут не вижу ковбасы. Какой-то весь обугленный не то еще в донбасской шахте, не то морозами, веселым не был, но повеселить умел. Так вот, майор, заботливый хозяин, приходит к нам в электромастерскую; потертая и долгополая кожанка, внушительная самокрутка, треща, роняет паровозную искру; серьезен, сумрачен садится на верстак. И обращается к Данильченке: нам надо приготовить к лету то-то, нам надо сверх того и это… Нам? Как говорится, берет Данильченку по делу. Не исполнителем приказа, а со-трудником, со-товарищем. Однако, как ни назови, а действовать-то без конвоя нельзя как раз Данильченке, весьма наклонному к побегам, что он и доказал не раз. Его ловили, били, добавляли срок. Он признавался: невольно думаю о воле по весне… Майор и говорит: Данильченко, ты слово дай, скажи мне – даю я слово честное; и баста, я распоряжусь, и все… Данильченко вздыхал. Зачем-то надевал бушлат в натопленной донельзя мастерской, то снова стаскивал. Молчанье было ощутимо трудным. И, словно бы сочувствуя майору, повесив голову, ответил: «Эх, гражданин майор, ну, слово дашь, а тут, глядишь, кукушка скоро закукует, позовет… Нет, гражданин майор, не буду, не могу». Вчерашний фронтовой комбат поднялся в рост, едва ль не двухметровый, багровея, швырнул цигарку: «Ты завтра выйдешь без бригады. И приступай. Я за тебя отвечу. Понял?» – и хлопнул дверью. А мой Данильченко вздохнул: «Ну, тать его… Макаренко».
Так поступить с В.Л. ну нипочем не смог бы робеющий всего и вся Беклемишев. А Бурцев внезапно улыбнулся весело, беспечно. Беклемишев оторопел – казалось, что В.Л. вот-вот изъявит озорство. Но Бурцев ничего не высказал и ничего не объяснил. Тут, знаете ли, такая вышла «перекличка».
Героем моего романа в обоих смыслах слова был Лопатин (коли охота, загляните в «Две связки писем»). А Бурцеву он был кумиром (коли угодно, отворите дверь в сторожку, имеется в виду «Соломенная сторожка»). Продолжаю. Нужно знать, что Герман Александрович давным-давно в Сибири однажды дал слово г-ну полицмейстеру – не извольте беспокоиться, я лататы не задам. Не минуло и года, и он, что называется, ушел с концами. Спустя без малого полвека рассказывал об этом – там, далеко, на Юге, рассказывал и слушал море. Тяжело ворочаясь, оно укладывалось спать… Шутя спросили: позвольте, Герман Александрович, выходит, слово побоку? Ответил пресерьезно: полицмейстера сменили, а новенькому я слова не давал. Все рассмеялись, Лопатин тоже. И палец приложил к губам: любил он слушать, как засыпает море.
Вы замечали, у морей косые скулы? Февраль имеет скулы эскимоса. Наверное, потому, что тюремная решетка наискосок расчерчена метелью. Какие снегопады в феврале. Там, на дворе, день ото дня фонарный столб все ниже, сугроб, его обнявший, все выше и пухлее. И Петроградская, она в сугробах тоже, дрейфует, словно материк, все дальше от Крестов. На Петроградской доживает Герман Александрович, ему восьмой десяток, он доживает свой последний год. В.Л. готов услышать его голос, пусть и в телефон оригинальнейшего образца, хотя, конечно, канализация, шутил Лопатин, не знает акустических эффектов моря.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: