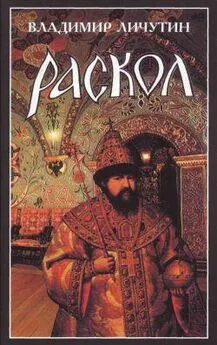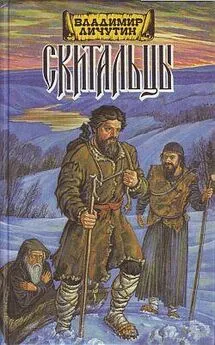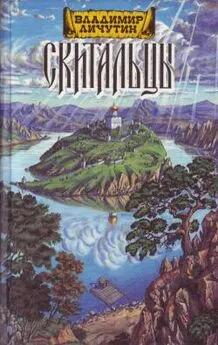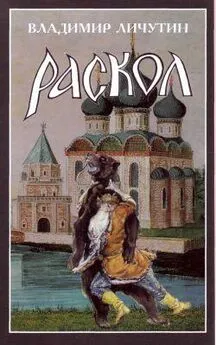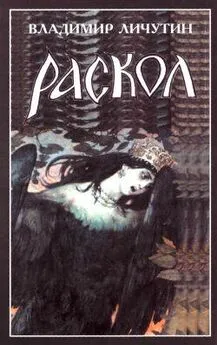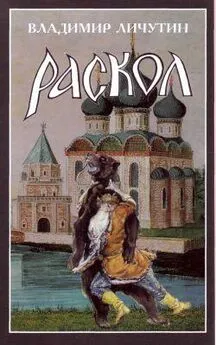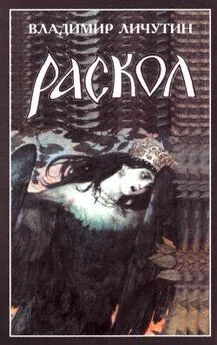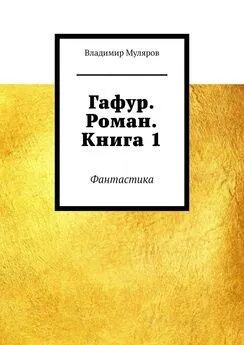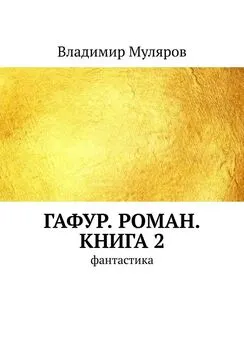Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга I. Венчание на царство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Давай улыскайся над батькою, – мирно упрекнул Созонт, с трудом извлекаясь из дремотной плывучей грусти. – Вот и я где только не бывал, а все по чужим следам топтался. А думалось, что вно-ве-е... Вот трава ежели. Издаля она, как шерсть медвежья. А пади на колена – всяк цветок наособицу. Так и люди на свете, всяк на свое лицо.
...Сказывают, до крепости Грустин, что в Лукоморье на горах за Обью-рекою, приходят с торговлей черные люди от Китайского озера. Глаза желтые, серпом, а обличьем – головешки. Так те, как лягушки, в ноябре в день святого Георгия помрут, а в апреле всякий раз оживут, чудное дело. Как помереть, они складывают товары в назначенном по сговору месте для обмена. А весной, ежли найдут, что грустинцы надули с ценою, то свои товары назад просят. Говорят: отдай! И опробуй не вернуть, тотчас войною... Ниже по Оби взять, там каламы живут, поклоняются Золотой старухе. Стоит та баба у Обдора на берегу и держит на коленях сына, а из брюха уже внук, значит, мальчонка лезет. Золотую старуху те каламы почитают, как мы Господа своего, и то место запечатано для всякого чуженина. А по реке Тахнин обитают люди-звери: у иных все тело обросло шерстью, у других – собачьи головы, иные без шеи. Вместо головы – грудь, а руки до земли и ног нет...»
«Сам-то хоть видел? Иль во снях наснилось? Тебе набаяли, а ты мне басню. Как это без головы?»
«С грустинцами знался, ну, как с тобою. А до черных людей не дошел. С того Китайского озера Обь выпадает, – сознался Созонт. – От крепости Грустин сквозь горы будет три месяца пути с лишком».
«Что, жила тонка?» – поддразнил отца Любимко.
«Да не-е... По дому заскучал».
Созонт не докончил рассказа. В плетухе, принакрытой рогожею, вдруг забеспокоился гнездарь, всхлопотал, жалобно заверещал. И как бы на этот зов вдруг в распахе двери появился белый кречет; шел он неловко, с раскачкою, неуклюже подпрыгивал по набитому земляному полу, помогая себе крыльями. И словно бы занял собою всю зимовейку, столь показался великим. Птенец заверещал пуще, видно, расчуял мамку, забился в плетухе. Точно грозой ударило мужиков, молоньей сразило, в такой они впали столбняк. Добивались кречета всей ватажкой, скитались по Канской земле, а он, вот, явился сам, как небесный вестник. «Чур меня, чур... чур», – кстился Созонт, сбелев лицом. Не смерть ли, часом, явилась за ним? А Любимко, тот сразу признал своего сокола: от него ныли, гноились по плечам рваные язвы и кровенели борозды на спине, словно бы увязил кречет когти в мяса, да и оставил там. Это он гнался по пятам от Шехоходских гор, расставив ухватом соломенно-желтые ноги.
Посреди становья кречет остоялся, восшумел крылами, будто захотел поразить Любимку в самое сердце, каждая махалка в аршин, почти белоснежная, с редкими черно-бурыми каплями, похожими на копейцы стрел. Да, это был не слеток и не молодик, но редкостных размеров дико мыт, непокорный властитель северных небес. Седые пуховые штаны, низко нависающие над лапами, желтовато-голубой, круто загнутый клюв и бурые пронзительные глаза в зеленоватых ободьях выдавали птицу боевого, властного покроя. Птица срыгнула шумно, щелкнула клювом; у Любимки и оторопь пропала. Господи, сама удача в руки, только не зевай. Экая досада – ни помчей, ни сетки возле. Зашарил по постели руками, потянул украдчиво одевальницу, чтоб спеленать кречета. Но куда там: кречет сразу отскочил, зорко сторожа немигающим взглядом охотников.
«Батько, давай опромет. Эх, ну что ты», – свистяще прошептал Любимко: он был юн, и предчувствия еще не томили его, а недавний сон уже источился, выпал из памяти.
«Да ну его, лешего, к дьяволу. Не видишь, рожки у него», – отмахнулся Созонт. Кречет подпрыгнул к плетухе, клювом потянул рогожку. Тут Любимко не сдержался и кинул на пришлеца кафтан. Да разве вольную птицу спеленаешь одежонкой? Нырнул кречет в дверь, прощально визгливо закеркав, – и только знали его. Любимко выскочил из становья, пошарил взглядом по небесам, но не нашел кречета в серой низкой мороке, едва сочащей влагу. Отец вышел следом, натужно дыша, левая половина лица нелепо испроедена, сквозь прозрачный пергамент мертвеющей кожи проступал череп; вывернутый глаз, обметанный червчатой бахромою, тускнел от слезы.
«Не зырься, парень, на дармовщинку, – остерег Созонт, расслышав тайные сыновьи мысли. – Чужое-то не удержишь, меж пальцей протечет. – Он взмахнул пястью в чужедальнюю сторону, куда, по его мнению, отлетел сокол, и с внезапным восторгом добавил: – Любовь – она сильнее медведя».
«Да ну тебя... Любовь, любовь. Возле же был. Расселся, как блин гретый... Ему руку протянуть лень», – осердясь, огрызнулся Любимко и скрылся в зимовейке. Да что толку досадовать на оплошку? Сам, раздевулье, тоже хорош: ему ложку с хлёбовом в пасть суют, а он зубы сцепил.
Любимко раскрыл клетку, собираясь кормить птенца свежиною. Гнездарь забился в угол, опал на гузку, нахохлясь, призакрыв голубыми пленками глаза, и словно бы запомирал.
«Эх ты, курячий сын», – Любимко жальливо погладил детеныша по взгорбку, и сердце его ворохнулось: под мягким, еще не загрубевшим пуховым пером косточки были тонки, беззащитные, как у цыплака.
...На следующий день кречет появился снова. Он подскочил к гнездарю, сидящему у варницы на вязке, и накормил его, срыгнув из зоба. Сокольники не мешали, сидели в затайке за дверью.
В третий день Любимко расставил помчи, приторочил гнездаря к вешке и стал ждать гостя. Кречет вытаился из небес на склоне дня, когда воздух сиренево замглился. Презирая опасность, он неловко подпрыгнул к гнездарю. Любимко дернул за шнур и накрыл птицу сетью. Воистину без снасти и вши не убить.
«Спустил бы дикомыта. Зря намучаешься, – посоветовал старый вожатай. – Видит Бог, не окротить его».
4
...Незагасимо, незаходимо северное солнце в короткую меженную летнюю пору, и всяк неусыпный норовит напиться его живородящим теплом. И брусеничный след солнца, похожий на оброненное перо жар-птицы, не успевает отгореть, вышаять до золы, как уже новая заря зацветает в малиновых постелях, поет хвалу ярилу, увенчанному золотой короною: гляди, бажоный, вон за ближнею горою, над припудренной мглою тайболой уже морошечно вспыхнула царева маковица, и сразу слюдяной влажный воздух, до той поры призрачно мреющий, как бы принакрытый кисейным пологом, вдруг зазвенел яро и рассыпался в поречные бережины, на пожни и хлебные навины пригоршнями окатного жемчугу, одарил щедротами всякую малую тварь, свернулся серебристой ягодой в каждом алчущем зеве дремлющего цветка; лишь окуни в пониклые травы замлевшую от трудов ладонь, и просыплется во вспухшую пясть студеная благодатная роса, омывая сбитые в кровь руки. Вот он, щедрый дар Господа нашего, изливаемый из целебных уст Его...
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: