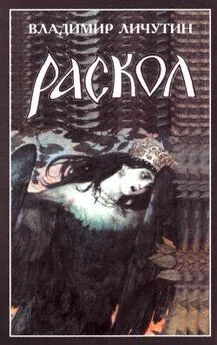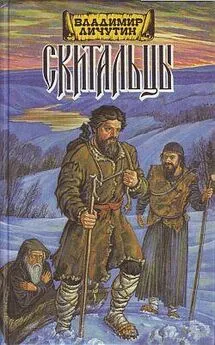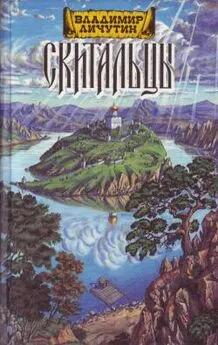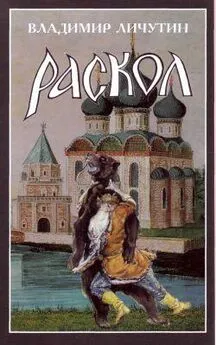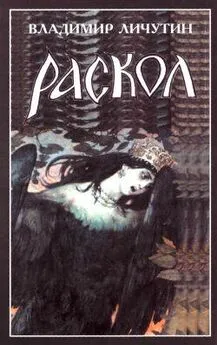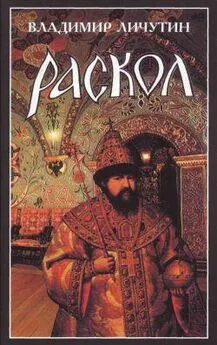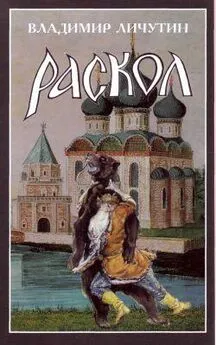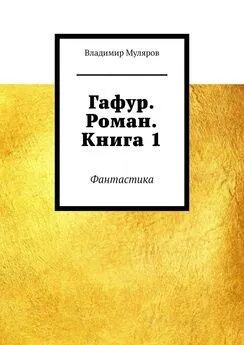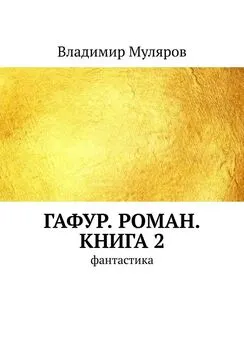Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Ну, чего разорался, косорылый шатун? То тебе и прозвище нынче. А ты, добрый монасе, поди к себе. Чудак, зря по дурню убиваешься, хоть и зовется тебе братом. Зря от могилы отвадил».
Феоктист неожиданно легко согласился со сторожем. Обошел стороною брата, едва протиснувшись около печи. Вышел из тюремки в монастырский двор. Мертвой парной человечиной пахло; кой-где лужицы крови скопились, еще не сметены в бурьян послушниками; новые могильщики из чернцов копали братскую яму, вели послушание, особенно угодное Господу; колокольное петье уныло молчало и отпевать покойников стало некому. Ино до края дожились... Боже, ну как тут не заскучать от тоски и не одичать? Из общежитья донеслось бражное пенье, кто-то вскричал безобразно, а после загорготал по-звериному, распахнулась келейная дверь, выплеснули в крапиву помои... Нет, когда Феоктист был в обители хозяином, такого свинства не водилось. Конец света так-то встречают, забыв стыд. В обнимку, шатаясь, вышли на свет два бывших разиновца, помочились с приступки и стали прилюдно целоваться; что-то похабное вскричал в келье городничий Морж, и команда пушкарей-затинщиков закипела смехом. Феоктист лишь поежился, серединой Преображенской площади минуя вертеп; вот оно, человечье преображение, подумалось невольно. Из Божьего образа в рогатый, бесовский, когда похоти затмевают всяческое рассуждение, а совесть попирается бесстыдством, а Христа покрывают Иудою и поклоняются ему, яко Богу, и попов лают и собачат, и справляют нужду на паперти, ленясь сбродить в отхожее место, и вдоль градской стены уже без опаски не ступить, чтобы не расплеваться... Вот вроде бы и в своей обители, а как на чужом возу; только и едешь, уцепясь за грядку, пока не скинули в дорожную пыль. Нынче же приволокутся для увещевания кто-то из братии, только именем монастырские старцы, и начнут снова приклепывать Божьим именем да рассуждать о крепости старинных книг, и чистоте прежних нравов, что нынче унижены всяко царевой службой. И только одно в толк не возьмут, что коли встали за истинную веру, презрев смерть, так закоим было привечать разбойников и шпыней всякого разряду, отборных злодеев, кто кровью чужою не однажды умылся, как в парной банечке, и хочет от государевой расправы прикрыться монастырскими стенами. Впустили лису за порог, а она и на лавку скок, да и хозяина-то из дому вон да прочь... Да и то бедные старцы-толковщики, куда им подеваться, ежли после службы из церкви не пройти до келеицы, чтобы не нажить греха, – оплюют иль колпак с головы собьют и под ноги стопчут; ежли монастырскую-то казну едва берегут из остатних сил от упахистых, жадных рук.
Фу-фу, не удержался Феоктист, сплюнул все-таки в сторону вертепа; и в мгновение ока в оконце кельи просунулся ствол винтованного карабина, свистнула пулька, сбила с головы Феоктиста еломку. Чернец поднял скуфейку, глянул в обожженную с краев дырку на белый свет и отправился в свою камору, провожаемый глумливым смехом. Тем же вечером досадители обметали оконце кельи лайном.
За подмогой бы кинуться к братии, но монахи все по кельям сидят, они молитвою боронятся от беса внешнего, но бессильны от пришлых с каменным сердцем; вот и стараются христовенькие по возможности лишний раз из своего угла не выкуркивать, уповая лишь на Спасителя...
Сколько бы ни метался по темничке, утыкаясь в углы, выкрикивая угрозы иль уливаясь слезьми, сколько бы ни горячился в мстительном порыве, строя самые коварные спасительные замыслы, но прочные стены, глухота, затаенность каземата и самого строптивого усмирят, кинут на сиротское ложе. Вот и Любим покуражился сгоряча, пробовал и решетку на оконце расшатать; да и вынь ты ее, но в дыру-то не просунуться, тут разве годовалый ребенок пролезет. Угораздило дикому мясу на костях нарость; как бы горносталькой обернуться, чтобы в щелку ускользнуть...
Шум услыхал тюремщик, открыл в двери глазок, просипел: «Эй, служивый, чего ширишься, как просвирщица над стряпнёю? Иль вши заели?» – «Мысли заедают», – вдруг миролюбиво отозвался узник. Он скоро смекнул, что со сторожем лучше не задираться, но притянуть в свою сторону; ход из камеры был один, лишь через вахтенную, где дневал и ночевал безносый Вассиан. Случается, что и у разбойника сердце подтаивает, можно и последнего шиша дорожного умаслить ласковым словом. Ласковые-то речи и кошке приятны.
«Так разве не все повыбили?»
«Одна мыслишка уцелела: как бы деру дать. Иль отсюда не бегивали?»
«При мне не бегивали. Не слыхать что-то, – отозвался словоохотливый Вассиан. И у него ведь житье было не слаже: коротает в тюремке, как пес на вязке. – А сиживали всякие. И не тебе чета. Вот Артемий сидел, то давно было, игумен Троицкого монастыря, что жидовинам продался. И поп благовещенский Сильвестр было угодил, да тут же, где ты сейчас сидишь, и скончался... Бегать отсюда некуда, кругом вода. Так что живи мирно. И мне тады хорошо...»
«Видит Бог, убегу. Меня вязки не держат. У меня и середний брат Минейко экий же был... Я на воле родился, на воле и загнусь где ли».
«Ерестливый ты больно. Все на себя сворачиваешь. – И вдруг понизил голос Вассиан, свел на шепот, будто кто-то подслушивал. – Тебя вкинули, чтобы попугать. Подержат сколько-то, да и, поди, скажут, прочь. Ты верь мне. – И, спохватившись, что сболтнул лишнего, вновь повысил тон. – Слишком горяч, скажу. Много значит переживанье. А ты не переживай давай».
«Жальливый ты. И добрый», – подольстил Любим.
«Ага. Добёр, пока кто на меня не попер. – Заслышал шум в сенях, заорал: – Не возникай, косорылый! На глотку меня не бери...»
Любим улыбнулся, горбатясь, присел к оконцу разглядывать репейные кущи с отцветающими остистыми шишками, похожими на боевой шестопер. Таким шестопером однажды в походе Любим испроломил голову шатуну-хазарину, превратив ее в решето, не помогла тому и железная шапка. Нет, на блудного и вора у царева служивого всегда была крутая рука; но впервые в тюремном затворе сыскался разбойник-разиновец, к кому душа не слышала зла. Косорукий, безносый Вассиан был из доброго человечьего корени, тот самый раскаявшийся разбойник, распятый вместе с Христом, что после был удостоен от Господа многих небесных щедрот. Иль монастырь выделывает с человеком такую шутку, перекраивая затомившееся в гульбе сердце на новый лад? Но Любим тут же окоротил себя: «Вор, он и в чернецком зипуне вор... А с вором ухо всегда держи топориком...»
В стражницкой гундели. По заискивающему голосу тюремщика Любим понял, что явился игумен не к Вассиану за долгом, но к узнику за душою. Он вошел в камору, низко пригнувшись. Был в байбарековом клобуке с воскрыльями, вязаная из овечьей шерсти скуфья тесно обтягивала чело, скрывала лоб по самые брови. Сухостью щек, пыльностью густых развесистых бровей, какой-то тусклой изжитостью полуопущенного взгляда походил Никанор на старого ратника, вернувшегося в домы из последнего в жизни долгого похода. Ему бы сейчас срочно присесть без лишней нуды домашних, и вот он ищет глазами место, где бы скорее кинуть хоть на минуту истомелые кости. Таким, бывалоче, приходил из сокольих изморных ловитв отец Созонт, и тогда они, малая щень, прятались от зверовщика на полати иль в дальний угол печи, чтобы не попасться под горячую, скорую на расправу руку, а мать Улита, уже зная, как угодить хозяину, скорее бросалась на колени, чтобы стянуть с ног бахилы, словно бы сросшиеся с распухшими в дороге мослами. И, знать, в это мгновение, глядя сверху вниз на покорный темно-синий бабий повойник с выбившейся прядкой волос и видя старание, с каким сымаются сапоги, мужик слепливался сердцем, уже привыкал к дому. А после чашки ушного и крюка горелого вина отца и вовсе отпускало, он тогда становился щедрым на гостинцы, текучее слово и корявые мужские ласки. Отец часто снится Любиму, распухший, с чугунно-сизым лицом, измазанным глиной. Приподнявшись из могилки, он стенает: «Сыро мне тута, сынок, да тесно, сердце жмет. Возьми меня отсюдова».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: