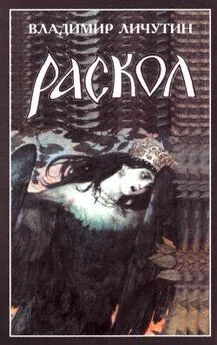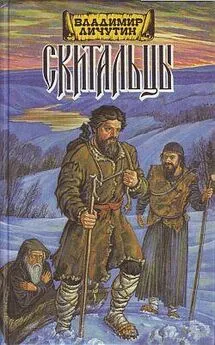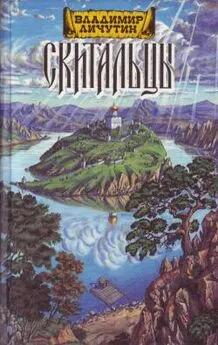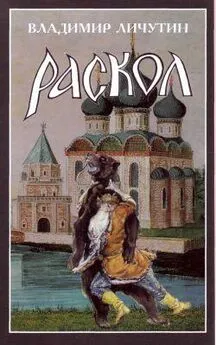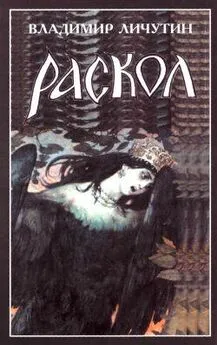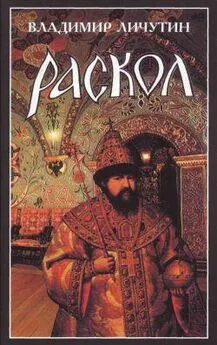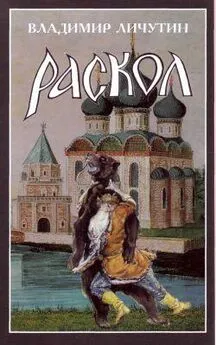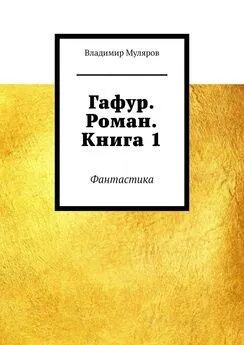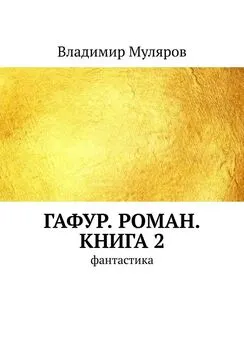Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Название:Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Личутин - Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение краткое содержание
Владимир Личутин впервые в современной прозе обращается к теме русского религиозного раскола - этой национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский народ и поныне.
Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных страницах истории российской, когда «... в какой-нибудь десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою».
Роман «Раскол», издаваемый в 3-х книгах: «Венчание на царство», «Крестный путь» и «Вознесение», отличается остросюжетным, напряженным действием, точно передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона.
Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII века.
Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Загарчала в темень, нарочито пригрубляя хриплый голос:
«Твоего-то царишку, милая, давно бесы с мутовками ждут. Вот ужо покормят его тамотки раскаленными подовыми пирогами, а поить станут жидким оловом...»
«Не мой, не мой... Ты не придумывай, Феня. Но какой ты ужас говоришь. Как язык поворачивается? Живой же он человек. Каких страстей насылаешь...»
«Давай, прижаливай. А он тебя пожалел? Иль ты пятки ему собралась лизать? Тьфу... Лизать копыта козлища вонького рогатого...»
«Ой, Феня, Феня... Матушка во Христе. Любая моя сестрица-большуха. Ну какая же я девушка? Полно тебе смеяться надо мною. Скоро ведь бабкой стану, – вдруг засмеялась в темноте Евдокия, жиденько загулькала горлом, как небесная невинная птичка, заперхала, давясь скорыми слезами. – Песок из меня сыплется, а ты меня девушкой. Старая я старуха, чужой век загрызаю. Уж кровь не греет».
Зашуршала солома, покряхтывая, подползла княгиня к Федосье Прокопьевне, положила голову на колени, умостилась, свернулась калачиком, затихла. Тихонько засопела, вроде бы укатилась в тонкий прерывистый сон. Боярыня ощупкою стащила с ее головы повойник, разобрала косы, принялась гребешком обряжать долгие сестрины волосы, нынче тонкие и ломкие от грязи; а когда-то тугую непролазную эту чащобу едва продирали в четыре руки две сенные девки. Княгиня от чесанья иль от Федосьиной нежности вздрогнула узкими плечиками, очнулась и длинно, тоскливо простонала, встревоженная коротким виденьем. Материнское-то сердце и за годы тюремного сиденья не онемело, ни на минуту не позабывало своих кровиночек. И вдруг запричитывала княгиня сначала шепотом, а после, вознося голос до крика:
«Ой-ой... Доченьки мои, кровиночки мои рожоные... Евдокия и Настасьюшка, голубочки мои сизокрылые!.. Ох, светы мои, нарыдалась бы, наплакалась, на вас глядючи, и тем сердце свое утешила... Светы мои любезные, не позабывайте мати свою горюшицу, поминайте ее в своих молитвах, поживите угодно Христу, а к погибели, светы мои, не прикасайтесь... Ой, сердце мое, надеюся о душах ваших. Все минется, а душа всего дороже. Пекитеся о душе, подщитеся одесную стать, чтобы мне в веке будущем никогда не разлучаться с вами.
Ох, светы мои, не льститеся, что млады и юны. Не щадит смерть младости, всех равно гробу предает. И помните, светы мои, смертный час и как явиться Страшному Суду. И брата Васю берегите, не дайте упасть, говорите ему ласково... Утешьте утробу мою плачевную, обрадуйте сердце мое сокрушенное.
... Ой, любезный мой Васенька, молю тебя из ямы земляной в конце жизни своей. Ой, не пей ты хмельного, ничего не пей, помни, свет, кто вино пьет, тот не наследит Царствия Небесного. Не попускайся, свет мой, на винище проклятое. Пьяницам горькая мука сотворена... Ой да не погуби душу свою, люби веру старую истинную и будешь от Бога вечно помилован, и будешь долголетен на земле. А возлюбишь веру новую, и ты скоро умрешь, и меня не нарекай уже матерью, уж я не мать тебе...»
В затхлом норище, отражаясь от кирпичных сводов, плач этот бил в уши и оглушал сердце. Вроде бы всунули в каменную скудельницу, задвинули крышицей, а покойник давай выть в гробишке да причитывать. От ужаса у любого в голове сдвинется, и грудь забьет страхом. Стрелец наверху долго терпел, ворошил костер, подживляя уголья, но вот не сдержался, отпнул ногой с решетки железную сковороду, посветил головней:
«Эй, чучело! Ты что, сдурела, баба? Память вышибло? Ночь-заполночь, а она раззявилась. Не на кладбище, чай. Я тебе забью пасть-от коньей калькой. Слышь ты? А ну, загунь!»
«Дунюшка, не надсажайся, – прошептала боярыня, когда Евдокия запнулась от стрелецкой дерзости и оборвала воп. – Ну, будет тебе сердце-то рвать. Бат, не каменное. Кровью все изойдет».
Содрала плат с головы, утерла сестре лицо. Княгиня замкнулась, еще судорожно сглатывая невольные слезы; в голове с треском рвались огненные полотнища; Настасьюшка и Дуняша, совсем еще младенцы, убегали от пламени, а жар догонял, подбивал, облизывал крохотные сладкие пяточки, побитые морщинками, которые мать так любила целовать. И вот обернулись доченьки, протянули навстречу матушке пухлые ручонки в перевязках, раскрыли ладошки, а в каждой горит по смарагду. От граненых камней истекли тонкие болючие лучи, ударили княгиню в виски, она ойкнула и впала в беспамятство. Боярыня, разобрав волосы, поцеловала сестру в мраморно-стылый лоб и заострившийся нос, в увядшие, взявшиеся соленой изморосью губы...
«Дуня, ну что ты всамделе... Горюшица ты моя. Хватит плакать на радость врагу. Уймися, сердешная. От каждой твоей слезинки в бесовской орде прибывает...»
«Ты жестокая, ты очень жестокая, – вдруг отозвалась княгиня сухо, бесстрастно. Федосья Прокопьевна даже вздрогнула. – Это твое сердце, как у скимена, льва варварийского, оно никогда не порвется. Железное у тебя сердце. Сына схоронила, а хоть бы слезина выпала. У тебя не сердце в груди, а жернов. Плита каменная у тебя в груди», – бормотала княгиня замирающим бестрепетным голосом, а голова, до того легкая, как перо, наливалась чугунной тяжестью.
«Дуня, опомнись. Дунюшка, войди в ум, я же сестра твоя», – шептала боярыня. Ей стало душно и потно, власяница ссохлась с телом и стала выламывать, корежить кости, выжимать утробу. Под горлом горько заклубилось, и черная бешенина стала забивать ум.
«Господи, не потеряться бы, – мысленно воскликнула Федосья Прокопьевна. – Сыне Божий, вразуми мя, Сыне Божий, не покинь!»
Боярыня прижалась губами к мокрому от слез лицу Евдокии, сыскивая в нем тепла, но будто к покоенке приникла, такой глубокий нутряной холод источался от кожи.
«Ты прости меня, слышь? Я жестокая, я грешница... Я сыночка своего одинакого истолкла в муку. Я кровиночку свою бесам отдала в услуги. Мне и через тыщу лет не свидеться с ним. Я с ним навсе-гда-а расста-ла-ся...»
Боярыня тонко, протяжливо застонала, заскрипела зубами, глаза жарко защемило, так захотелось зареветь истошно, волчицей подвыть несчастной соузнице.
Евдокия опомнилась, нашарила каравую от грязи ладонь сестры и стала мелко целовать иссохлые пальцы.
«Не проклинай... Федосья Прокопьевна, матушка во Христе, прости дуру несчастную. Ты сильная, я – слабая, никошная, от малого ветра поклонюся, как трава... И что со мной вдруг приключилося? Детки малые из головы нейдут. Как они там без меня жить станут? При живом отце сироты. Князинька еще меня не закопал, а уж под венец с другою. Я-то ему, не жди-де. Да разве не обидно? – Княгиня снова намерилась заплакать, но с трудом пересилила горе. – Богородица, прости за досаду и гнев. Заступница, пожалей малых деточек и оприють под покровом своим... Ой, хоть бы родница Ивановна не покинула деток, а стала вместо кровного родителя... Деточки мои, покоряйтесь Ивановне, слышьте-нет меня? Слушайтесь, милые, во всем... Господи, как тошнехонько-то мне! Ой, как тошно!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: