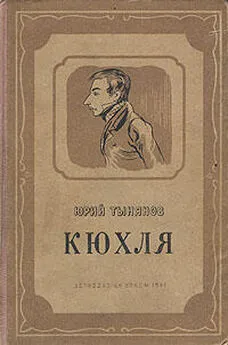Юрий Тынянов - Пушкин. Кюхля
- Название:Пушкин. Кюхля
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2005
- Город:Спб.; Москва
- ISBN:5-17-024161-5, 5-9713-0086-5, 5-9578-0935-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Тынянов - Пушкин. Кюхля краткое содержание
«Пушкин» и «Кюхля».
Жемчужины творчества Юрия Тынянова.
Перед читателем раскрываются образы величайшего русскою поэта и его товарищей по Царскосельскому лицею, оживают "золотой век" отечественной литературы и противоречивая эпоха декабристов – людей, которых потом назвали цветом русской интеллигенции…
Возможно, все было по-другому.
Но когда читаешь Тынянова, хочется верить, что все было именно так.
Пушкин. Кюхля - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– А то отложим, – сказал он вдруг нерешительно. – Отложим, – решился он окончательно.
Он смотрел на Вильгельма грустно.
– Я ведь вас люблю, Вильгельм Карлович, – неожиданно сказал он, – Бог с вами, прямо люблю.
Вильгельм в замешательстве поклонился.
– Я тоже вас люблю, Александр Львович, – пробормотал он.
– И знаете ли что? – сказал Нарышкин. – В Россию брюхом хочется. Я, пожалуй, здесь до весны не досижу. Я к себе в Курск поеду. Я французами, батюшка, тридцать лет назад еще объелся. Если б не Марья Алексеевна, я б с места не скрянулся. – Александр Львович задумался.
– И знаете ли, государь мой, – сказал он Вильгельму, – едемте вместе ко мне. Мой оркестр рожковый вы услышите – вам тошна Grand Opera [111]станет.
Вильгельм слушал с каким-то тайным удовольствием. Он знал, что на сумасбродного Александра Львовича просто стих нашел, а через час он выедет диковинным цугом в Булонский лес, будет грассировать, как природный парижанин, и к вечеру благополучно забудет Россию, Курск и рожковый оркестр. Но Александр Львович в такие минуты бывал ему очень приятен.
– И по совести, – лукавствовал, склонив толстую голову, Александр Львович, – я даже, убейте меня, не могу понять, что за бес нас с вами в настоящее время в этот отель засадил, в котором даже понять ничего нельзя, так все разбросано, когда в России и удобно, и тепло, и, главное, все понять можно.
– Все? – улыбнулся вопросительно Вильгельм.
– Все, – с удовольствием отвечал старый куртизан. – Здесь, скажем, что теперь поют: Faridondaine? – И он запел, потряхивая головой, с вызывающим либерализмом новую песню Беранже:
La faridondaine
Biribi… Biribi. [112]
– Ничего не понять: biribi-biribi, – повторил он, отлично грассируя и любуясь словечком. – А у нас все понятно: баюшки-баю.
Вильгельм захохотал. Александру Львовичу тоже его шутка необычайно понравилась, и он повторил еще несколько раз, с торжеством глядя на Вильгельма:
– Biribi-biribi. То-то и есть. – И потом добавил скороговоркой, отвечая себе уже на какую-то другую мысль (чуть ли он не проигрался накануне в biribi): – С пустой головой сюда можно, с пустыми руками – никак.
Когда Вильгельм вернулся к себе, решимость его поколебалась. Греция его манила, но красавца Броглио он вспомнил даже с некоторым неудовольствием. Все было не так просто. В Грецию вел какой-то окольный путь. «С пустыми руками» туда ехать нельзя было.
«Biribi», – вспомнил он Александра Львовича и рассмеялся. Он выглянул в окно. Весенний Париж был сер и весел. Толпы гуляли по улицам, и слышался порою женский смех. Где теперь Пушкин? Каково Александру в грязных южных городишках? Что Дельвиг поделывает? И Вильгельм сел ему писать письмо. Завтра у него был важный визит – к Бенжамену Констану, который взялся устроить Вильгельму чтение лекций о русской литературе.
X
Дядя Флёри, друг Анахарсиса Клоотца, оратора рода человеческого, одинокий и сумрачный математик, обломок 93-го года, писал свой труд о всемирной революции. Только в общности всех народов было спасение революции от гнилой XVIII обезьяны (так дядя Флёри называл «Желанного Людовика»). Дядя Флёри долго изучал все угнетенные страны, в которых мог вспыхнуть пожар.
Пока жив хоть один тиран, свобода не может быть обеспечена ни для одного народа. Неаполь раз, Испания два, Штаты три, Греция четыре. В Германии только что упала голова Занда, во Франции снова растет дух убитой вольности.
Оставались Англия и Россия.
Россия была загадкой для дяди Флёри, а загадок он не любил: труд его о всемирной революции был написан в форме аксиом, лемм, теорем.
В России не народ убивал тиранов, а тираны спорили между собою. Там было рабство. Два имени привлекали внимание дяди Флёри: Стефан Разэн, страшный казак, который грозил опрокинуть деспотический старый порядок, и в особенности Эмилиан Пугатшеф, вождь рабов, организатор высокого полета, русский Спартак, удовлетворявший дядю Флёри прямолинейностью военной тактики. Рабы – это было тело революции. Тело нуждалось в голове. Дядя Флёри не видел этой головы. Русская его теорема отдела II за № 5 была недописана.
Дядя Флёри зорко следил за русскими сведениями. Поэтому, когда он узнал, что молодой русский профессор и поэт читает в Атенее лекции о русской литературе, он постарался пробраться туда. У поэта была странная фамилия, дядя Флёри никак ее не мог запомнить: Бюккюк, что-то вроде Кюкельберг. Когда дядя Флёри увидел и услышал русского поэта, он еще больше удивился.
Длинная, согбенная фигура, вытянутое лицо, кривящийся рот, огромные руки с лихорадочно двигающимися пальцами, тонкий и хриплый голос – все это кого-то напоминало дяде Флёри. Он где-то уже слышал этот голос.
На лекции он ходил аккуратно. Зал Атенея был переполнен, в первых рядах сидели литературные знаменитости – дядя Флёри видел сухой профиль белокурого Констана, бледное лицо и горящие глаза Жульена, толстое, крупное лицо Жуи. Рядом сидел какой-то бесцветный человек с мутными глазами, который усердно записывал лекции и жадно всматривался во все лица, – может быть, газетчик, журналист.
Две первые лекции понравились дяде Флёри. Поэт начал с истории, и притом древнейшей. Древняя Россия с ее простодушными нравами, мужественным духом простонародия, интригами бояр и отсутствием возможности организоваться в единое, сколько-нибудь крепкое государство, развитие частного быта и несовершенство государственного механизма, – все это было важно для дяди Флёри. По отдаленным предкам он имел возможность приблизиться к разрешению русского вопроса. Впрочем, и вся зала внимательно слушала поэта, может быть пораженная его необычайной внешностью.
Но на кого похож этот длинный, восторженный поэт? Дядя Флёри никак не мог припомнить.
И только в третий раз, во время третьей лекции этого странного поэта – он вспомнил. Поэт говорил о древней простонародной русской поэзии. Он утверждал, что народ русский умеет быть в сказках и пословицах удивительно веселым и остроумным. Кто слышит и знает простонародную сказку, тот бывает поражен радушием, мягкосердием, остроумием и непамятозлобием безымянных авторов. Удальство витязей русских необыкновенно. Но песни, старинные песни русские, самые напевы их и самое стихосложение – заунывны.
– Почему? – спросил поэт. Он стоял бледный, выпуклые глаза его сверкали. Голос его вдруг охрип.
– Не дурной ли это знак, что, начиная с древней истории русской, есть у народа что-то, что мешает ему стать великим, благодатным явлением в мире нравственном, среди всех других народов? – сказал он, задыхаясь.
– Рабство, – сказал он глухо, – рабство, которым пахнет хлеб, посеянный рабом, рабство, в коем поется песня. О, какая ненавистная картина, как распространяется рабством развращение! Что может сравниться с ежедневным рабством народа, создавшего веселые сказки и создающего грустные песни, и каково думать, что все это подавляется, все это вянет, что все это, быть может, опадет, не принесши никакого плода в нравственном мире? Да не будет!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: