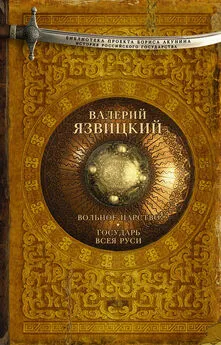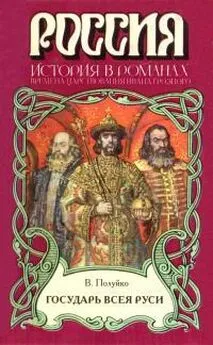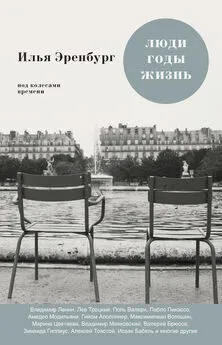Валерий Язвицкий - Иван III - государь всея Руси (Книги первая, вторая, третья)
- Название:Иван III - государь всея Руси (Книги первая, вторая, третья)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АРМАДА
- Год:1996
- Город:Москва
- ISBN:5-7632-0199-x
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Язвицкий - Иван III - государь всея Руси (Книги первая, вторая, третья) краткое содержание
Перед вами замечательный исторический роман, который посвящён России времён Ивана III. Иван III — дед знаменитого Ивана Грозного. Этот незаурядный политический деятель, который сделал значительно больше важных политических преобразований, чем его знаменитый внук, всё же был незаслуженно забыт своими потомками. Книга В. Язвицкого представляет нам государя Ивана III во всём блеске его политической славы.
Исторический роман В.Язвицкого воссоздает эпоху правления Ивана III (1440–1505 гг.), освещает важнейшие события в формировании русского государства; свержение татаро-монгольского ига, собирание русских земель, преодоление княжеских распрей. Это произошло в результате внутренней политики воссоединения древнерусских княжеских городов Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки и др. Одновременно с укреплением Руси изнутри возрастал ее международный авторитет на Западе и на Востоке.
В первый том вошли 1–3 книги.
Иван III - государь всея Руси (Книги первая, вторая, третья) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все это волновало обоих государей. Василий Васильевич плакал, умилялся, молился и обо всем подробно расспрашивал. Иван же сидел молча.
Он никак понять не мог, почему же татары бежали в испуге, бросив не только пушки, но и весь полон свой с людьми и всяким добром. Непонятны были ему и обиды боярам и купцам от сирот и черных людей.
Помнил он смуту московскую, когда бояр вязали и били, но то было понятно. Бояре и все из княжого семейства тогда бежали, оставляя град и всех людей на произвол судьбы…
Ныне же никто не бежал, а даже престарелая княгиня шла по стенам с крестным ходом, не страшась ни огня, ни жара, ни стрел татарских.
Но бояре сидели хмурые и жаловались на обиды и разбойничанье сирот.
Более всех негодовал боярин Семен Иванович.
— Всем нам беда пришла единая, — возмущался он, — а сироты, как и татары поганые, жгут наши нивы, которые жать уж начали. Жгут и сжатый хлеб в скирдах и на овинах у нас в подмосковных. Так же чинили они убытки гостям и боярам, грабили хлеб и жгли, пока не бежали поганые.
— Чуда божьего над татарами устрашились, — молвил один из князей Ряполовских, — и стихли…
Тут заговорил спокойно митрополит Иона, обращаясь к Василию Васильевичу:
— А ты, государь, сирот и черных людей прости за безрядье — велик их ущерб от татар: и избы их, и хлеб, и добра всякого много погибло. Все же бились они с врагами, на кремлевских стенах бились, живота не щадя. Они боле потеряли, чем и купцы и бояре вкупе.
— Яз, отче мой, — отвечает взволнованный Василий Васильевич, — им отворю свои амбары и житницы и лесу дам, пусть строятся…
Слушает Иван, а все же понять не может, в чем же чудо было и почему сироты боярский хлеб жгли. Решил он сам спросить поподробней у Юрия.
Как только трапеза кончилась, Иван пошел к себе в хоромы, позвав с собой брата.
— Вишь, — говорил он Юрию, сидя уже у себя в покоях, — митрополит всегда за сирот заступается. Верно он всегда сказывает. Помнишь, когда вез он нас к Шемяке, наказывал нам, что сироты для князя дороже сильных и богатых. Отдают они за государя все и даже живот свой…
Иван смолк. Глаза его вдруг потемнели, и сказал он сурово:
— Все же своеволье и грабеж пресекать надобно. Мыслю, зря отец им помочь дает. За содеянное бесчинство наказать их надобно беспощадно!..
— Эх, Иване, — возмутился Илейка, — слушали вы все бояр токмо, а народ-то больше бояр содеял… Знаешь ты, как народ-то деял?..
Загорелся Илейка и кричит уж во весь голос, от всего сердца:
— Слушай, Иване! Ведь не татары то хлеб у сирот сожгли. Не безумны же татары-то! Травы нет — спалило засухой, кормить коней нечем, а они хлеб жечь будут? Сами сироты хлеб свой сожгли. Рожь-то совсем поспела, да и яровые тоже. Вот татары и начали кормить коней хлебами, а сироты — хлеба свои жечь. Как сироты сожгли все круг Москвы — тощать стали кони ордынски, а оставайся татары еще под Москвой, пожди они еще, и кони падать бы стали… Бояре же да купцы и тивуны хлеб свой жечь не давали: стражу ставили. Силой у них жгли. От сего ордынцы-то и устрашились, потому при слабых конях не токмо воевать они не могут, но и в степь к собе не вернуться им. А тут слух еще — великий князь с войском подходит…
Ивана и Юрия, как громом, эти слова поразили. Враз понял Иван, как все произошло и что вовсе не бог это чудо сотворил, а сироты.
— Яз, Илейка, — воскликнул Иван, — расскажу о сем государю и владыке Ионе. Прав ты, Илейка, во всем…
Глава 20. На Кокшенге-реке
Этой зимой голос Ивана вдруг изменился — стал совсем иным. Исчезла в нем отроческая мягкость, и звучит он ровно и звонко, подобно отцовскому, но ниже, как-то особенно твердо и значительно. Иногда и сам Иван с удовольствием прислушивается, как хорошо звучит его голос, отдаваясь в груди.
Как-то, входя в покои отца, он, услышав разговор о себе, невольно задержался в сенцах у самой двери. У Василия Васильевича были только бабка да мать.
— Хошь и ты высок и дороден, сынок, — говорит бабка, — а Иванушка выше и дородней тобя, в деда своего…
— А голос-то мой, — перебил мать Василий Васильевич, — гуще, а мой… Лица же его по слепоте своей не ведаю…
— И баской, как ты, — ласково сказала Марья Ярославна, — а глаза мои. Токмо иной раз они какой-то страх наводят. Грозно иной раз глядит Иванушка…
— А девки, — засмеялся Васюк, — все ж хошь и робеют, а глаз с него не спущают…
— И то истинно, — согласилась бабка. — Ты, сынок, погладь его по щекам-то — борода пробивается, а усы и ранее того.
Сердце Ивана почему-то от этих разговоров забилось чаще, и охватило его непонятное волнение. Еще больше взволновался он и весь вспыхнул радостным румянцем, когда услышал возглас отца:
— А умом он, надежа моя, многих не токмо мужиков, но и стариков умней…
Иван не мог слушать больше и с пылающими щеками отошел подальше в сенцы, остановившись возле лесенки, что ведет вверх, к башенке-смотрильне, где в последний раз виделся он с Дарьюшкой. Почему-то это прощание теперь ему вспомнилось. Вздохнув долгим прерывистым вздохом, он прошептал громко:
— Дарьюшка моя…
Пересилив себя, он снова направился в покои отца. Семейный разговор все еще там продолжался, и юный соправитель услышал восторженный рассказ Васюка:
— Намедни вот молодой-то государь боролся с Федор Васильевичем. На что Курицын-то силен, а государь его шутя всей спиной к полу…
Почему-то Ивану не захотелось идти к людям. Не дослушав разговора за полуотворенной дверью, он тихо пошел к себе, но, проходя мимо опочивальни Марьи Ярославны, все ж не утерпел и зашел поглядеться в венецианское зеркало…
Перед самым рождеством стали приходить в Кремль тревожные вести: Шемяка с помощью новгородцев снова двинул полки свои на московские земли, пошли с ним к Великому Устюгу и многие из вольницы новгородской.
На этот раз в Москве вести эти тревоги особой не вызвали. Все понимали, что после разгрома под Галичем Шемяка более не опасен.
— Перед смертью много не надышится, — сказал Василий Васильевич за трапезой.
— Оно так, — заметила Софья Витовтовна, — но мухи-то перед смертью злее жалят…
Тем разговор и окончился. Василий Васильевич, вызвав воевод своих, повелел им выставить вокруг Москвы и на путях к ней военные заставы и приказал удельным слать помощь. Отпустив воевод, он молвил сыну:
— Попомни, Иване, всякому злу путь к нам от Новгорода. Даст бог, сокрушим его, яко сокрушили Шемяку.
Спокойно государи отпраздновали в стольном граде своем рождество и выступили в поход. А пятого января прибыли в Сергиеву обитель.
Дорога эта Ивану была хорошо знакома, а страшные воспоминания, связанные с ней, уже не волновали его. Свыкся он с ослеплением отца, притупилась душевная боль, только ненависть к усобицам княжеским охватывала еще сильней, и острой занозой вонзалась ему в сердце досада на отца за его гневную ярость и поступок с Бунко в Сергиевом монастыре.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: