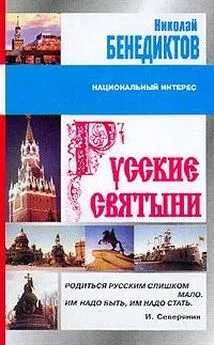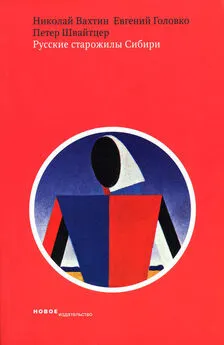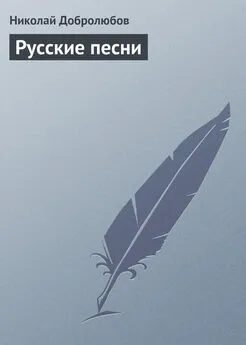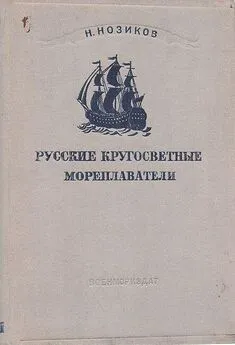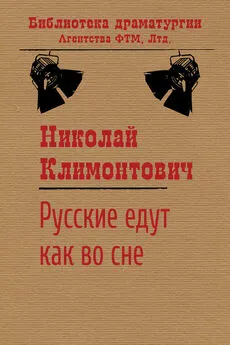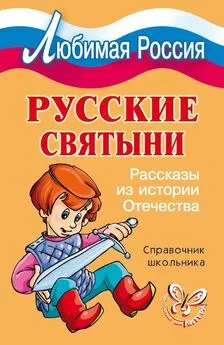Николай Бенедиктов - Русские святыни
- Название:Русские святыни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Алгоритм-Книга
- Год:неизвестен
- Город:Vjcrdf
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Бенедиктов - Русские святыни краткое содержание
В книге философа, историка Н.А. Бенедиктова идет речь о системе ценностей русского народа. Помимо общих представлений о русских святынях, в ней дается описание ключевых периодов становления народа. Без знания национальных смысложизненных ценностей невозможно управлять страной, о чем, похоже, не подозревают нынешние руководители России.
Русские святыни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И вторая проблема — бытийно-практическая. Восприятие Бога как абсолютной истины (и тогда высшей рациональности), земного мира как сотворенного, греховного, по сути, и резкой границы между ними привело к болезни европейской философии — разрыву слова и дела. Истина слова и дело бытия (жизни) разошлись столь основательно, что уже в Итальянском Возрождении среди титанов Возрождения и гуманизма мы видим громадное число аморальных и даже преступных типов. Цезарь Борджиа и Бенвенуто Челлини с Никколо Макиавелли могут быть своеобразными образцами этой эпохи титанов мысли, творчества, с одной стороны, и своекорыстия, подлости, лицемерия, эгоизма, с другой стороны. И в дальнейшем в европейской философии достаточно редки философы, которые жили как учили. Наоборот, правилом являлся разрыв между словом текста и делом жизни, бытием и учением. Примером могут служить проповеди известного францисканского проповедника Бертольда Регенсбургского, деятельность которого приходится на 60—70-е годы ХШ века. В одной из своих проповедей он перечисляет "Божьи дары", данные чело-
веку, причем наибольший интерес представляет сам порядок их перечисления по степени значимости: 1) наша собственная персона, 2) твоя служба, 3) твое время, 4) твое имущество, 5) твой ближний. [102] См.: Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990. С. 200–201.
Таким образом, любовь к ближнему занимает последнее место в иерархии "Божьих даров". Интересно и понимание Бертольдом того, как должна проявляться братская любовь. Рассуждая на тему "люби ближнего своего как самого себя", он утверждает, что это следует понимать как желание ближнему того же, что и себе самому. [103] Там же. С. 208.
Следовательно, любовь к ближнему заключается не в конкретной помощи ему, а лишь в том, чтобы от души пожелать ему столько же богатства, сколько его есть у тебя. Как отмечает А. Гуревич, во времена Бертольда евангельское требование, что имеющий две рубахи должен поделиться с неимущим ближним, уже считалось ересью, и проповедник указывает на это требование как на несомненный знак наличия крамолы. [104] Там же. С. 209–210.
Столь существенные различия западной и восточной церкви неизбежно сказались на их позициях по отношению к имущественному и правовому неравенству людей.
Уже в раннее Средневековье западная церковь переходит к оправданию существования бедности и богатства. Ее программа по данной проблеме фактически сводилась лишь к требованию милостыни в пользу бедных. "О способах прекращения бедности и не помышляли, — пишет А. Гуревич, — подаяние призвано было ее увековечить, поскольку оно склоняло нищих к тому, чтобы оставаться в роли иждивенцев, кормящихся от крох, уделяемых зажиточными. Нищета возводилась в моральное достоинство". [105] Там же. С. 26.
Более того, имеются все основания говорить о том, что западная церковь признавала функциональную необходимость существования бедности и богатства. В бедняках видели не столько страдающих ближних, которые нуждаются в помощи, сколько спасителей богатых. Бедные существуют для того, чтобы богатые могли искупать свои грехи подаянием; богатые же нужны бедным, дабы те могли кормиться около них. [106] Гуревич А. Я. Указ. соч. С. 26–27.
Западная церковь рассматривала общество как органическую систему, в которой основные социальные разряды функционально дополняют и служат друг другу, образуя тем самым гармонический порядок. Однако в рамках данного подхода эти социальные разряды имели разное достоинство и значимость не только в функциональном, но и в нравственном отношении. В понимании, например, известного францисканского проповедника XIII века Бертольда Регенсбургского личность всегда социально определена, нравственные качества ее теснейшим образом координированы с ее принадлежностью к классу или сословию. [107] Там же. С. 204.
И структура личности крестьянина, его нравственные качества несравненно ниже по достоинству, чем нравственные качества, например, знатного сеньора. Ле Гофф пишет, что средневековые тексты "повторяли с вызовом, что крестьянин подобен дикому зверю. Он звероподобен, безобразно уродлив, едва ли имеет человеческое обличье. Ад — его естественное предназначение". [108] Л е Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1990. С. 279.
В России такого разрыва не было. Наоборот, правилом являлось единство учения и бытия, слова и дела, мысли и поступка. Слово являлось продолжением жизни, дела, и началом дела и жизни, поэтому в нем нельзя было видеть только рациональную грань, но приходилось учитывать и художественно-образное значение его, и реально-практический смысл в цепи событий и условий места, времени, контекста. Исихазм как официальная доктрина православия усилил эту национальную черту — художественность и чувство единства слова и дела, сильнейшего личностного начала.
Личность же, с точки зрения православной веры, должна быть свободна от своей природы, от своего «эго», от всего того, что препятствует осуществлению в ней образа Божьего. Данный результат может быть достигнут только путем отказа от всего эгоистически индивидуального, от собственных страстей, от самоволия. При достижении данного состояния ум человека делается богоподобным; воля его становится как бы продолжением воли Божьей и уже не может противоречить ей; душа, сподобившись Святого Духа, становится бесстрастной, а тело — храмом живущего в нем Духа и уподобляется телу Христа.
Здесь необходимо оговориться, что бесстрастие души понимается в данном случае вовсе не в смысле равнодушия к окружающему, отказа от мира. "Бесстрастие, — указывал Григорий Палама, — это не умерщвление страстной части души, а преложение ее от худого к лучшему. В бесстрастной и богоподобной душе страстная часть живет и действует", в ней присутствует "ненависть ко злу и любовь к Богу. Мы любим и испытываем отвращение, привязываемся и отчуждаемся, одобряем и осуждаем. Уничтожаем мы лишь расположение душевной силы ко злу". [109] Цит. по: X о р у ж и й С. С. Указ. соч. С. 304.
Таким образом, свободный отказ от своеволия, от видимости индивидуальной свободы приводит к истинной свободе, к свободе личности, к обретению величайшего дара — обожения. Отсюда — смирение, кротость, простота православных подвижников.
Но человек свободен в том, чтобы отвергнуть данный путь, путь к Богу. Соединение с Божественным не может быть осуществлено механически, поскольку это бы означало соединение без любви, а любовь к Богу является первой заповедью христианства. Любовь же всегда предполагает свободу выбора, возможность отказа. "Она есть единственный Божественный закон жизни и блаженства в Боге, ибо только любовью мы к Нему приближаемся и познаем Его…" [110] Поучения иеромонаха Петра (Серегина) // ВРХД, № 164. С. 90.
Лишь соединение двух воль — воли божественной и воли человеческой — может вести к обожению. Тем самым свобода понимается в православии прежде всего как ответственность, ответственность человека за выбор своих поступков, а не в западноевропейском смысле — как право индивида поступать в соответствии со своими желаниями. Одна из главных причин этого видится в умалении западной церковью значения Святого Духа — носителя любви.
Интервал:
Закладка: