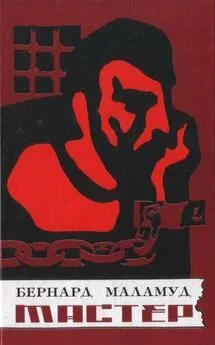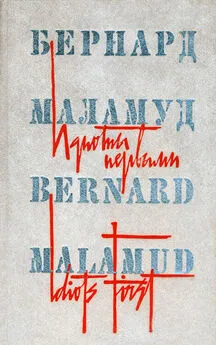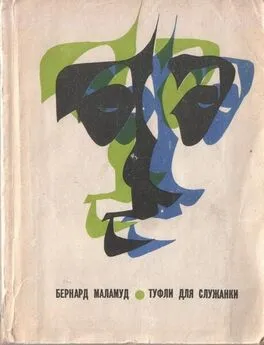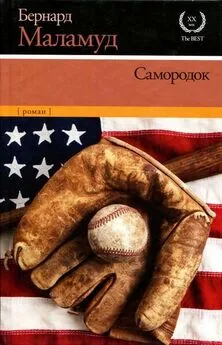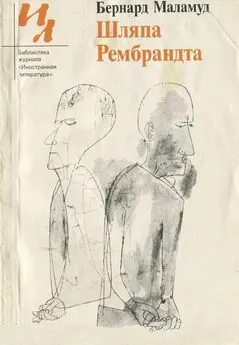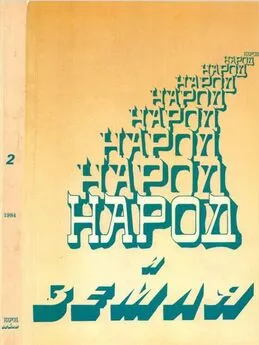Бернард Маламуд - Мастер
- Название:Мастер
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Лехаим
- Год:2002
- Город:М.
- ISBN:5-900309-19-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бернард Маламуд - Мастер краткое содержание
Бернард Маламуд (1914–1986) — один из ведущих американских писателей своего поколения. Автор нескольких сборников рассказов, в т. ч. «Волшебная бочка» (1958), «Идиоты первыми» (1963), «Шляпа Рембрандта» (1973), и романов «Помощник» (1957), «Новая жизнь» (1961), «Соседи» (1971), «Божья милость» (1982), каждый из которых становился событием. Судьбы, нравы и трагедия евреев постоянно занимают Маламуда, сына еврейских родителей, эмигрировавших из царской России. Так иди иначе, еврейская боль, хотя бы отголоском, звучит во всех его произведениях. Знаменитый роман «Мастер» (1966, Пулитцеровская премия, Национальная премия) построен на документах, знании жизни и не иначе как пренатальной памяти. В основе его — «дело Бейлиса» (Киев, 1913 г.), когда был обвинен в убийстве с ритуальными целями невинный человек потому только, что имел несчастье родиться евреем. О внутреннем облике Бейлиса известно не так уж много, но можно предположить, что он был привлекателен в своей искренности, иначе присяжные едва ли бы его оправдали. Силой таланта Маламуд воссоздает прелестный характер немудрящего, но умного, внутренне интеллигентного и благородного мастерового. Страдания невинного человека, подвергаемого несправедливости и жестокостям, мужественное противостояние тюремщикам, безнадеждные попытки великодушного следователя вызволить невиновного, трагическая обреченность этих попыток, но рядом со всем этим — сложные перипетии отношений героя с женой, комически-милые споры с тестем и даже трогательные прения с бедной клячей создают волнующие перепады в движении фабулы. На сумрачном фоне диковатой, грязноватой, неуютной русской жизни проходят очень разные люди, евреи и русские, и на переднем плане мастер, Яков Бок — чистая душа, превозмогая все искушения и издевательства, блюдущая себя в чистоте.
Мастер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Уходишь из дому, и ты под открытым небом; и там дождь, снег. Это сыплет снегом история, то есть все, что с тобой случается, затевается где-то там, в клубке общих событий. Конечно, исподволь, заранее затевается. Все мы в этой истории, кто ж сомневается, но некоторым от нее достается больше других, евреям особенно. Снег идет, но ведь не каждый выйдет на улицу и под него угодит. Лично он промок под этим снегом до нитки. Вот не думал, не ждал, а вступил в историю глубже других — так уж она подгадала. Почему — не известно. Потому что он Спинозу взялся читать? И, набравшись идей, расхрабрился? Вполне возможно, кто знает? Да, но не будь он Яковом Боком, евреем, он бы не стал правонарушителем в Лукьяновском, когда они такого искали, начнем с того; и его бы не сцапали. По сей день бы за кем-то рыскали. Да, получается, все это история наворотила, наставила оград и решеток, как, предположим, забили бы в доме все двери и, чтобы выйти, пришлось бы прыгать в окно. Вот и прыгнешь, но можешь сломать себе шею. О, в истории когда погуще, когда пожиже, но всегда много чего протекает. Островский ему объяснил. Раз приспели условия, что должно случиться, то и случится, тебя только поджидают. Когда история вокруг тебя чуть редеет, по ней вполне можно идти: дело к дождю, но сияет солнце. А он под снегом набрел на Николая Максимовича Лебедева с его этой черносотенной бляхой. И где вы видели рай?
Но его молодые родители, скажем, всю свою нищую жизнь прожили в штетле, а зло историческое все равно на них наскочило и там прикончило их. Так что «под открытым небом», он думал, — это везде. Под крышей, под небом, все равно тобой вертит история, злая история мира. Злопамятная. И куда ни пойдет еврей, он на себе волочит все — свою нищету, притеснения, обиды. Да зачем ехать в Киев, в Москву, никуда не надо ехать, оставайся себе в штетле, торгуй бобами и воздухом, пляши на свадьбах и похоронах, всю жизнь торчи в синагоге, умирай в своей постели и делай вид, что ты отошел с миром, но никогда еврею не быть свободным. Потому что правительство уничтожило свободу еврея, не ставя его самого в медный грош. И где бы еврей ни остался, куда б ни совался, все и всегда для него опасно. Дверь распахивается, чуть он приблизится. Высовывается рука, хватает за еврейскую бороду — его, Якова Бока, свободномыслящего еврея, тащит на кирпичный завод в городе Киеве, но и каждого еврея, любого еврея — тащит и делает царским врагом и жертвой; назначает убийцей трупа, любезно предоставленного его величеством, и тащит в застенок, заставляет голодать, выносить оскорбления, сидеть на цепи, как пес, хотя он невиновен. Почему? А потому что каждый еврей виновен, раз гниет государство, а не гнило бы — не боялось, не ненавидело бы в такой степени тех, кого само же и травит. Островский ему напомнил, что в России и кроме антисемитизма хватает бед. Те, кто преследует невиновного, сами не свободны. Но разве эта мысль его утешала, нет, скорей выводила из себя.
Все произошло потому — мысль кружила и возвращалась вспять, — что он Яков Бок, и ему следовало кой-чему научиться. Он и научился, и трудно досталось ему это учение; человек учится на собственном опыте, куда денешься. Но в данном случае опыт поставили на нем. И он стал, значит, совсем другим человеком, кто бы подумал? Я кой-чему научился, он думал, научился, да, но какой мне толк от такой науки? Тюремные двери она откроет? Даст мне выйти отсюда и начать сначала мою бедную жизнь? Хоть чуть-чуть она сделает меня свободней, когда я освобожусь? Или все, чему я научился, — так это только знать, на каком я свете? Океан соленый, когда вы тонете, но вы тонете, хотя и знаете это, да? Но все равно это лучше, чем не знать. Человек должен учиться, такая его природа.
Без цепей он дергался, не знал, что ему делать с собой. Время стронулось, опять покатилось, как паровоз с двумя вагонами, с тремя вагонами, четырьмя, дни сбивались вместе, вот и две недели прошли, и, к ужасу его, прошло целое лето. Настала осень, и при одной мысли о зиме его пробирала дрожь. Голова болела от этой кошмарной мысли. Суслов-Смирнов — нервный, длинный, на тонком переносье очки с толстенными стеклами, копна пшеничных волос — четыре раза приходил, задавал вопросы, делал пространные записи на узких листках; Островского к нему больше не пускали. Суслов-Смирнов обнял узника и обещал — «хотя эти кретины в суде топчутся на месте и нам мешают» — управиться побыстрей. «Но тем временем будьте осторожны при каждом шаге. Как говорится, не дышите, господин Бок. Просто не дышите». Он кивнул, подмигнул обоими глазами, прикрыл ладонью рот.
— А вы знаете, — сказал Яков, — что они убили Бибикова?
— Мы знаем, — шепнул Суслов-Смирнов, тревожно озираясь, — но не можем доказать. Только вы никому не говорите, а то еще больше усложните свое положение.
— Я уже сказал, — вздохнул мастер, — Грубешову.
Суслов-Смирнов что-то быстро черкнул, вымарал, ушел. Сказал, что вернется, но не вернулся, и никто не мог сказать мастеру почему. Или я опять что-то ляпнул не так? Опять они заберут назад свое обвинение? Яков исцарапывал всего себя ногтями. Еще месяц утекал. Яков снова считал дни с помощью обрывков от бумаги, выделяемой ему на подтирку. Он весил, казалось ему, целую тонну — тонна сплошной тоски. Жалкая надежда — идиот, и зачем надо было ей поддаваться? — мелькнула, вылиняла, увяла. Ноги у него разбухли, шатались зубы. Никогда еще в жизни не бывало ему так плохо.
Но тут явился смотритель с безупречной бумагой, поздоровался и сказал, что скоро начнется суд.
Всю ночь толпятся в камере арестанты, которые в ней жили и умерли. Серые с празеленью, с опавшими лицами, в рубище, бритые головы в шрамах, толпятся они в камере. Без слов смотрят на мастера, он на них, и в глазах у них горит тоска по жизни. Исчезнет один, и вместо него — сразу двое. Так много арестантов, думает арестант, это страна арестантов. Крепостных они освободили, да, или это они так говорят, а держат в тюрьме невинных людей. Он видит долгую череду мужчин с затравленными глазами, голодными ртами, и тянется эта череда, и сквозь толстые стены уходит в обнищалые города, в бескрайние голые степи, огромные, дремучие, заснеженные леса, в каторжные застенки Сибири. Тут и Трофим Кожин. Он сломал ногу, лежит в снегу, и долгая череда медленно тянется мимо. Глаза у Трофима закрыты, рот дергается, но он не зовет на помощь.
— Помогите! — кричал в темноте Яков.
В ту ночь перед судом страх смерти терзал Якова, и хоть ему смертельно хотелось спать, он боялся уснуть. Только слипнутся у него тяжелые веки, он видит: кто-то стоит над ним с ножом, горло ему хочет перерезать. И мастер боролся со сном. Сбрасывал одеяло, чтоб не дал заснуть холод. Щипал себя за руки и бедра. Захочет кто-то прокрасться в камеру — он сразу закричит, только приоткроется дверь. Крик — единственная его защита. Крик распугает убийц, они подумают, а вдруг заключенные по коридору услышат, догадаются, что убивают еврея. Услышат, а там уж, глядишь, просочится наружу слух, что тюремщики его прикончили, чтоб только не вести в суд.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: