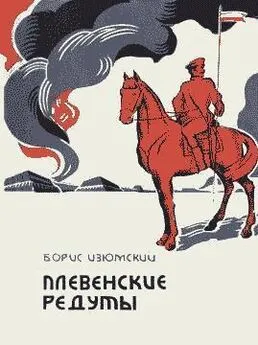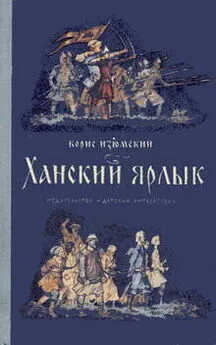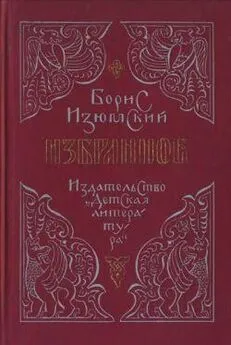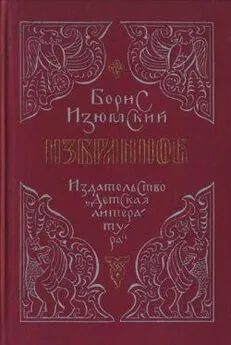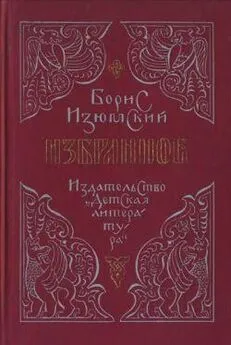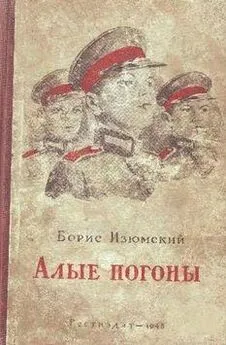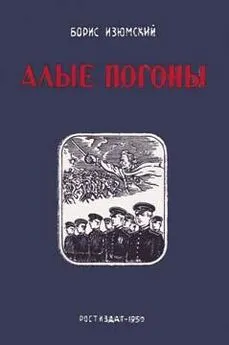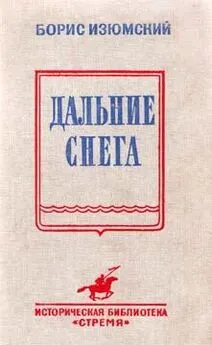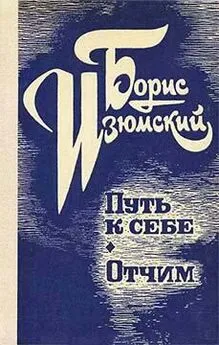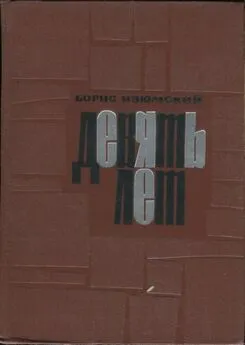Борис Изюмский - Плевенские редуты
- Название:Плевенские редуты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ростовское книжное издательство
- Год:1976
- Город:Ростов-на-Дону
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Изюмский - Плевенские редуты краткое содержание
Роман «Плевенские редуты» дает широкую картину освобождения Болгарии от многовекового турецкого ига (война 1877–1878 гг.).
Среди главных героев романа — художник Верещагин, генералы Столетов, Скобелев, Драгомиров, Тотлебен, разведчик Фаврикодоров, донские казаки, болгарские ополченцы, русские солдаты.
Роман помогает понять истоки дружбы между Болгарией и Россией, ее нерушимую прочность.
Плевенские редуты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тяжко всхрапывали кони. На их исхудалых боках лежал, не растаивая, снег.
— В орудия впрягайсь! — раздалась команда, и солдаты влезли в лямки.
Позади послышались крики. Суходолов и Русов оглянулись. В пропасть полетело орудие, исчезло в страшной глубине. Потом покатилась на дно пропасти лошадь с патронными вьюками. Мрачно глядели на происходящее косматые ели, нахохлившиеся орлы с соседних скал. Турки из ложементов, пробитых в горе, посылали гранаты и пули.
Батальон быстро составил ружья в козлы, все солдаты начали лихорадочно расчищать тропинку, бросая снег в сторону турок и словно бы отгораживаясь от них стеной, потом разобрали ружья и перешли на следующий участок.
После освобождения Плевны Верещагин жил в одном доме со Скобелевым. Правда, он почти не бывал на квартире: делал в альбоме зарисовки турецких пленных, улиц Плевны, вечерней реки во льду, дороги на Софию, усеянной трупами, занесенной снегом.
Теперь, на перевале, он тоже беспрерывно рисовал. По памяти нарисовал того донского казачка. Рисунок получился удивительно удачным: чубатый паренек глядел мечтательно и бесстрашно… И другого солдата нарисовал, который так запросто назвал его Василь Василичем.
На Верещагине белый полушубок на бараньем меху, под ним газеты, перевязанные веревками, — так утеплил себя, — темно-серого недорогого каракуля казачья папаха, на боку — шашка с костяным эфесом.
Где-то в Обозе заплутались вещи. Он имел неосторожность в Габрово ненадолго отпустить своего денщика, кубанского казака Курбатова, а этот изверг рода человеческого, видно, загулял и так и не явился, хотя клятвенно обещал, что «беспременно справится».
Сейчас Василий Васильевич вынужден был делать наброски снежного тоннеля на дощечке от сигарного ящика. Снег похож на легкий фиолетовый флёр, но как передать его холод? Эти как обступают высокой оградой. Как, например, дать ощущение глубины? Краской «черная кость» в сочетании с робертсон медиум? Должен ли холст «просвечивать» или приобретать плотность?
Но вот его заняли другие мысли.
Кого только не втянула в свои жернова эта война! На одном из ее привалов встретил Василий Васильевич юного, но подающего надежды писателя — Всеволода Гаршина, вольноопределяющегося 138-го Волховского пехотного полка. Он недавно опубликовал в «Отечественных записках» рассказ «Четыре дня». Внимание Верещагина привлекли глаза Гаршина: большие, светло-карие, глядящие с кроткой грустью. Его офицер отозвался о юноше очень лестно, как о человеке, стойко переносящем солдатские тяготы и даже представленном к Георгию.
Художник познакомился с Гаршиным и был тронут, когда тот вдруг прочитал свое стихотворение, посвященное выставке верещагинских картин в Петербурге:
И как хорошо сказал этот молодой человек: «Художник должен ставить значительные социальные проблемы, писать о драматических моментах жизни, а не быть фабрикантом украшений».
А в освобожденной Плевне судьба свела Василия Васильевича с командиром 1-го Нарвского гусарского полка — Александром Александровичем Пушкиным, внешне совсем не похожим на отца. Старший сын поэта высок, с куценькой светлой бородкой. После ранения не ушел с поля боя, получил за храбрость золотую саблю и Владимира 4-й степени с мечами и бантами…
…Кружились жернова войны, подгребали все новых и новых людей. Счет шел уже на сотни тысяч, а сколько еще втянут? Только слышался на весь мир хруст костей, да земля жадно впитывала кровь.
Пена, как обычно, оставалась на поверхности, а полные сил юные жизни гибли и гибли. Да еще немолодые, совестливые люди сами жертвенно бросались в пучину.
…Начался турецкий обстрел.
Верещагин огляделся. Скобелев продолжал сидеть на своем белом арабе Плевне, глубоко засунув руки в карманы шинели, словно ничего и не происходило. Потом, соскочив с коня и бросив поводья ординарцу, неторопливо, с развальцей, пошел навстречу пулям, немного склонив голову в белой папахе набок, высматривая что-то, видимое лишь ему одному, и умышленно замедляя шаг.
Вершины гор заволокло туманом. Пади забило темными тучами. Турки стреляли явно со скал.
— Дукмасов, — позвал Скобелев, и хорунжий словно вырос из-под земли, — возьми взвод пластунов, вышиби турок из засады.
Он показал на скалы справа, ни на мгновение не сомневаясь, что приказание его будет выполнено. Скобелев уверен был, что для истинно военного, а именно к таким он причислял хорунжего, ратное дело — желанный праздник.
Дукмасов с пластунами полез в обход.
— К финишу подступили, — сказал Скобелев Василию Васильевичу, возвращаясь.
Верещагин, оторвавшись от эскиза, вопросительно поглядел на Михаила Дмитриевича.
— Сквозь строй прошли мы с вами, Базиль Базильевич. — Скобелев искоса с удовольствием оглядел крепкую осанистую фигуру художника. Любил его по-своему: терпеть не мог «пацифистские картинки» среднеазиатской поры, но ждал новых, как он мысленно говорил, настоящих, и где-то в тайниках тщеславной души видел и себя на этих картинах. А еще любил способность Верещагина искать пекло, любил его вспыльчивость самолюбивого человека, нелицеприятную жестковатость в отстаивании правды.
В художнике была какая-то величественность, что ли в гордо поднятой голове, в уверенном взгляде. Он ведь коренаст, а вот казался высоким. Несмотря на ранение, ловко держался на коне… Михаил Дмитриевич от кого-то слышал, что, когда выставку Верещагина посетил царь и его сын попытался пройти за веревку, отделявшую от зрителей картины, художник решительно запретил: «Близко смотреть не разрешаю!».
Характер!
— Сквозь строй… — повторил Скобелев и подумал о недавно раненном пулей в лопатку навылет Куропаткине и об отце, что остался в Плевне. Жаль, что они на прощание рассорились. Отец загорелся желанием выведать у Османа, где именно в городе их скрывальницы с зарытыми знаменами.
— Разве ты на его месте сказал бы? — возмутился сын и едва уговорил старика не разрешать себе бестактности.
«И все же, — незаметно посмотрел Верещагин на Скобелева, — в нем несомненен военный талант, он суворовской школы. Отношение же к нему власть предержащих — ревниво-подлое. Не могут отказать себе в удовольствии ошельмовать преуспевающего генерала. И напрасно-де атаковал на Зеленых горах: обреченный на неудачу, он, мол, тем „возвышал дух турок“ и пулям не кланяется „из кокетства“. Разговоры его с солдатами называют „демагогической болтовней с нижними чинами ради рекламы“, а заботу об их пище и удобствах расценивают, как желание „вселить к себе преданность солдат, чтобы легче было посылать их на убой, а самому получше обрисоваться перед начальством“. Мерзко!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: