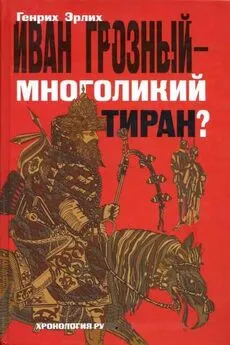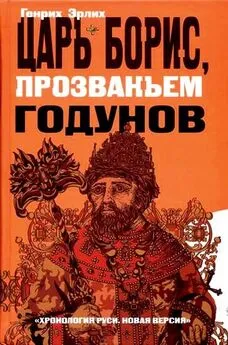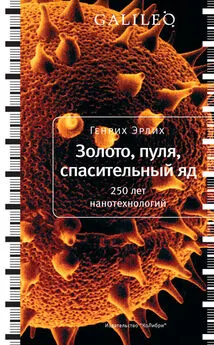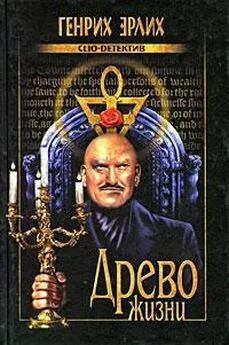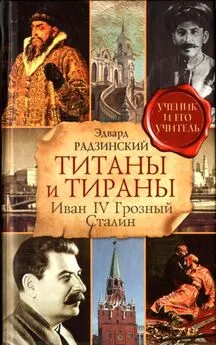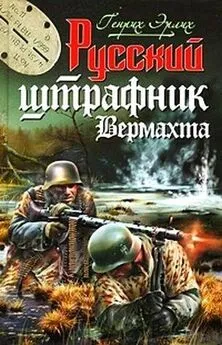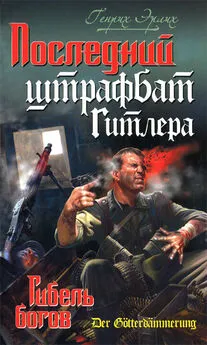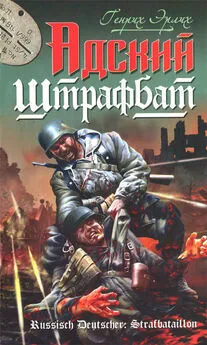Генрих Эрлих - Иван Грозный — многоликий тиран?
- Название:Иван Грозный — многоликий тиран?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Издательство «Яуза», ООО «Издательство «Эксмо»
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-17424-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Генрих Эрлих - Иван Грозный — многоликий тиран? краткое содержание
Книга Генриха Эрлиха «Иван Грозный — многоликий тиран?» — литературное расследование, написанное по материалам «новой хронологии» А.Т. Фоменко. Описываемое время — самое загадочное, самое интригующее в русской истории, время правления царя Ивана Грозного и его наследников, завершившееся великой Смутой. Вокруг Ивана Грозного по сей день не утихают споры, крутые повороты его судьбы и неожиданность поступков оставляют широкое поле для трактовок — от святого до великого грешника, от просвещенного европейского монарха до кровожадного азиатского деспота, от героя до сумасшедшего маньяка. Да и был ли вообще такой человек? Или стараниями романовских историков этот мифический персонаж «склеен» из нескольких реально правивших на Руси царей?
Иван Грозный — многоликий тиран? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— А ты представь, Гюрги, что Иван то же самое не Собору, а Думе боярской предложил бы, — ответил Курбский.
— Ну-у-у, — протянул я и представил картину до того явственно, что даже в ушах зазвенело.
— То-то и оно, — усмехнулся Курбский, — никогда бы они на то согласие не дали, стеной бы встали, а Иван их самих поставил у стенки из людишек соборных, да чуть поднажал с двух сторон, вот они и сдались.
— Но ведь он же царь, мог просто приказать, — не сдавался я.
— Приказать — дело не хитрое, вот только что из этого бы вышло? Очередная смута, — ответил сам себе Курбский. — А с боярством по силе его враждовать не только опасно для царя, но и вредно для государства.
— Опять не понял! — тихо воскликнул я. — Вы в этой самой палате месяцами напролет спорили, как силу боярскую сокрушить, — тут Курбский посмотрел на меня так подозрительно, что я даже запнулся, но спохватился и продолжил, горячась, — а теперь после победы ты говоришь, что это вредно для государства.
— Нелегко понять, — ответил Курбский и добавил с лаской в голосе, — ты голову-то не напрягай, просто поверь и запомни: страшна не сила боярская, страшно своеволие боярское. — Тут я заметил, что собравшиеся приумолкли и прислушиваются к нашему разговору, и оттого смешался. Курбский тоже заметил это внимание и стал говорить громче: — Бояре — соль Земли Русской, боярским советом держава укрепляется, так предками нашими завещано, боярской силой ратною держава рубежи раздвигает и врагов сокрушает. Ты оглянись вокруг, почти все здесь бояре знатнейшие, а брат твой, царь Иван, среди них первейший. Можем ли мы желать унижения боярского? Хотим мы видеть боярство сильным, но мыслящим заедино с царем, хотим мы иметь государя великого, но склоняющего свой слух к совету боярскому.
Тут они опять спорить начали, и я окончательно запутался.
Не знаю, чем Иван сломил своеволие бояр. Мне до сих пор кажется, что проповедью прощения. А вот Курбский говорил о какой-то стенке, к которой Иван бояр поставил, что это означает, мне неведомо. Как бы то ни было, на следующий день Собора бояре были едины в одобрении всех предложений царя Ивана. А перевороты были нешуточные!
Как я, бывало, смеялся над спорами бояр из-за мест! Выстраивается ход, так они у меня за спиной завсегда пихались, определяя, кто первым пойдет, а кто вторым. А на пирах — кому выше сидеть, кому ниже! Обижались, как дети, шапки на пол в досаде бросали, убегали прочь. С пиров убегали, а на войну могли не пойти: мой дед над дедом этого худородного начальствовал, невместно мне теперь под его рукой быть и не буду! Хоть кол на голове теши, хоть на кол сажай! А тут Иван предложил быть в войске без мест, служить верой и правдой под началом того, кого он поставит, сообразуясь с воинской доблестью и умением, кои по наследству не передаются. И надо же — согласились! Но оговорили, что на прочее, в особенности на пиры, этот новый обычай не распространять.
Предложил Иван оживить торговлю на Руси, отменить всякие сборы с торговли и прочих продаж, которые собирали наместники на местах в свою казну, а заодно и тамгу, которая взималась при пересечении границ областей. А вместо того установить единый для всей Руси налог на торговлю и промыслы городские, который пойдет в казну царскую. И на это согласились себе в убыток. Но долго рядили, какой налог назначить, чтобы не было ущерба царской казне, из которой им жалованье идти будет. Сколько назначили, на то я внимания не обратил, но думаю, что поболее всех старых, вместе взятых, таков уж на Руси дедовский обычай снижения налогов.
Покусился Иван еще на одно дедовское установление — на Судебник, главный закон Земли Русской. И дело не в том было, что воды много с тех пор утекло, а в множестве темных мест, которые каждый толковал к своей выгоде. Недаром говорили, да, признаемся, и по сию пору говорят: закон что Дышло, куда захотят, туда и воротят. Когда ты судишь, очень сподручно, когда же тебя судят, неладно выходит. А так как на Руси все под Богом ходят и от тюрьмы не зарекаются, то постановили единодушно Судебник перелопатить и статьи противоречивые в соответствие привести. Тут же и наказы свои высказали. Во-первых, попросили не считать признание своей вины главнейшим ее доказательством, ибо слаба плоть и под пытками в чем угодно признаешься, даже и в измене государю. На то Иван обещал подумать, а пока посоветовал больше молиться и укреплять дух. Во-вторых, попросили пересмотреть правила поля, судного поединка. Нет, конечно, дедовский обычай этот правильный, коли заходит дело большое в тупик, то как его разрешить, кроме как мечом, один на один, Бог, он все видит и правому пособит. Но неведомы нам пути Господни, вдруг он решит воздать правому в жизни загробной или призвать угодника своего к себе раньше срока, потому разреши, царь-государь, иногда, при явном неравенстве сил да по решению суда, выпускать вместо себя наемных бойцов. И то обещал Иван учесть и с советниками рассудить. Не забыли и о народе, попросив облегчить обычай правежа, по которому неоплатного должника всенародно били палками по ногам, чтобы истребовать лежащий на нем долг. Чтобы избежать членовредительства, попросили держать должника на правеже месяц за сто рублей долгу, а затем выдавать его заимодавцу головою, пусть отслуживает, подлец, свой долг работою. Согласился Иван и с этим, но потом увеличил срок до двух месяцев, рассудив, что одного для науки маловато.
А какой восторг охватил весь Собор, когда Иван предложил вдруг расширить чин святых православной церкви и включить в него сорок русских чудотворцев и мучеников! Как славили царя за благочестие, за попечение его отеческое о благоденствии и спасении народа! И я плакал вместе со всеми, тем более что и сам имел ко всему этому некоторое отношение.
Путаются у меня мысли, и трудно излагать все связно, ничего не забывая и не пропуская. А пуще всего выстраивать события по их важности. Потому в начале каждого повествования я стараюсь рассказать о делах государственных, которые вас интересуют в первую голову, а потом уж о себе, это я на сладкое оставляю.
Но я опять отвлекся. Я говорил о важности событий. Дело святительское завершило тот Собор, но до него был еще один вопрос, который тогда мне показался малозначимым, я, честно говоря, и не вслушивался особо. Лишь по прошествии лет проявились все последствия того решения, о которых, возможно, и сам Иван не предполагал. Точно не предполагал.
Меня тогда, помню, только одно удивило. Еще вчера Иван с таким трудом суд боярский, наместнический, порушил и возвестил суд единый, царский. А сегодня он уже это новое установление ломает и предлагает ввести какой-то неведомый земской суд. Пусть-де жители городов и волостей, купно служилые, посадские и вольные крестьяне, избирают для этого присяжных людей, излюбленных судей, старост и целовальников, и те решают все дела сами, по приговору своему на основе законов царских. А суд царский мелкими делишками пусть не обременяют, кроме дел о душегубстве, разбое с поличным, колдовстве и измене. И пусть сами вершат дела местные: ратников в походы военные снаряжают, дороги мостят, мосты наводят, церкви строят, охраняются от татей и бедствий, а главное — подати в царскую казну собирают и отвечают за них всем миром. А на такое управление выдавать земщине — вот оно, слово главное! — особые губные грамоты, где все было бы расписано: сколько оброку платить за право свой суд иметь, сколько посошных, полоняночных, ямских и прочих налогов собирать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: